
Тёрка в тагах
Большая Тёрка / Мысли /
Личная лента

-
katehon
"Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже когда она страдает и жалуется..." Чехов Антон Павлович. Письмо Орлову Н.И., 22 февраля 1899 г.Портрет жителя

katehon
Ален де Бенуа: Краткая история идеи прогресса
Apocalipsys Now!, философия, кризис, традиция, постмодерн
Прогресс состоит не в замене неверной теории на верную, а в замене одной неверной теории на другую неверную, но уточненную.
(Стивен Хокинг)
Разумный человек приспосабливается к окружающему миру; неразумный упорно старается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс всегда зависит от людей неразумных.
(Джордж Бернард Шоу)
Всякий прогресс основан на врожденной потребности всякого организма жить не по средствам.
(Неизвестный автор)
22.04.2010
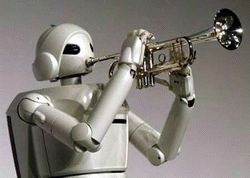 Идея прогресса является одной из теоретических предпосылок Модерна. Не без причины ее часто называют «подлинной религией западной цивилизации». Исторически эта идея была сформулирована приблизительно в 1680г. в ходе спора «ревнителей древности» и «современников», в котором участвовали Террассон, Перро, аббат де Сен-Пьер и Фонтенель. Она уточнялась по инициативе следующего поколения, к которому принадлежали Тюрго, Кондорсе и Луи-Себастьян Мерсье.
Идея прогресса является одной из теоретических предпосылок Модерна. Не без причины ее часто называют «подлинной религией западной цивилизации». Исторически эта идея была сформулирована приблизительно в 1680г. в ходе спора «ревнителей древности» и «современников», в котором участвовали Террассон, Перро, аббат де Сен-Пьер и Фонтенель. Она уточнялась по инициативе следующего поколения, к которому принадлежали Тюрго, Кондорсе и Луи-Себастьян Мерсье.Прогресс можно определить как процесс, проходящий через этапы, последний из которых по времени рассматривается как наилучший и предпочтительный, т.е. качественно превосходящий предыдущие. Такое понимание включает в себя как описательный аспект (изменение происходит в заданном направлении), так и аксиологический (развитие понимается как улучшение). Таким образом, здесь говорится об ориентированном изменении, ориентированном к лучшему. Об изменении одновременно необходимом (нельзя остановить прогресс) и необратимом (не существует возможности возврата к прошлому). Улучшение неизбежно, а значит завтра будет лучше, чем сегодня.
Теоретики прогресса делятся, исходя из отношения к его направлению, ритму и природе сопровождающих его изменений, а также к его главным действующим лицам. Тем не менее все они согласны с тремя ключевыми идеями: 1) линейная концепция времени и идея о том, что история имеет смысл, устремленный в будущее; 2) идея фундаментального единства человечества, эволюционирующего в одном и том же направлении; 3) идея о том, что мир может и должен быть трансформирован, подразумевающая, что человек является полноправным хозяином природы.
Эти три идеи обязаны своим появлением христианству. Начиная с XVII в., с расцветом науки и техники, они переформулируются в светском ключе.ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...Для древних греков реальна только вечность. Аутентичное бытие неподвижно: циклическое движение, подразумевающее вечное возвращение одного и того же, является наиболее совершенным выражением божественного. Если и существуют спады и подъемы, прогресс и упадок, то только внутри одного цикла, который неизбежно будет сменен другим (теория чередования веков у Гесиода, возвращения золотого века у Виргилия). С другой стороны, предопределенность идет из прошлого, а не из будущего. Термин архэ отсылает нас одновременно к истоку («архаика») и к авторитету («архонт», «монарх»).
В Библии история становится объективным феноменом, динамикой прогресса, который ведет в мессианской перспективе к наступлению нового мира. Книга Бытия наделяет человека миссией «господствовать на Земле». Темпоральность является тем вектором, благодаря которому наилучшее последовательно раскрывает себя в мире. Одновременно событие играет спасительную роль: Бог открывает себя исторически. С другой стороны, темпоральность направлена к будущему: от Творения ко Второму Пришествию, от Райского Сада к Страшному Суду. Золотой век уже находится не в прошлом, но в конце времен: история закончится и закончится благополучно, по крайней мере, для избранных.
Такая линейная темпоральность исключает всякое вечное возвращение, всякую смену циклов, которая имеет своим прообразом смену времен года. Начиная с Адама и Евы, священная история спасения подразумевает исключение всякого упоминания о вечности, проходит через неповторяющуюся стадию древнего Завета, и в христианской версии находит свою кульминацию в Воплощении Спасителя. Блаженный Августин был первым, кто применил библейскую концепцию к всемирной истории человечества, заявив, что она развивается к лучшему от века к веку. Теория прогресса секуляризовала эту концепцию истории, в результате чего появились все историцизмы Модерна. Главным различием между этими концепциями является то, что будущее в светской версии заняло место потустороннего, а спасение было заменено счастьем. В христианстве прогресс мыслится скорее эсхатологически, чем исторически в полном смысле этого слова. Человек должен искать свое спасение здесь, внизу, не теряя, однако, из виду горнего мира. Кроме того признается превосходство божественного плана. Наконец, христианство, как и стоицизм, проклинает ненасытное желание, и говорит о том, что мудрость заключается не в умножении желаний, но в их ограничении. Однако, согласно Апокалипсису, Страшному Суду будет предшествовать благодатное тысячелетнее царство. Это видение мира вызвало к жизни учение Иоахима Флорского, секуляризовавшего теории Августина.
Для того, чтобы прийти к своей современной формулировке, теория прогресса нуждалась в дополнительных элементах. Таковые появились уже в эпоху Ренессанса, но получили расцвет в XVII столетии.
Бурное развитие науки и техники вкупе с открытием Нового Света породили иллюзию существования бесконечного поля для улучшения жизни. Фрэнсис Бэкон был первым, кто использовал слово «прогресс» во временном, а не в пространственном значении. Он утверждал, что человеку предназначено господствовать над природой, познавая ее законы. Декарт также предлагал людям стать господами и хозяевами природы. Последняя, записанная на «математическом языке» Галилея, становится отныне мертвой и бездушной. Космос сам по себе уже не является носителем смысла. Он теперь не более, чем механизм, который надо разобрать, чтобы инструментализировать и лучше использовать. Мир становится чистым объектом для человека-субъекта. Человек усваивает убеждение в том, что благодаря всесильному рассудку он может быть самодостаточным.
Космос древних уступает место современному космосу – гомогенному, геометрическому и (быть может) бесконечному, управляемому причинно-следственными связями. Модель, наиболее близкая этой механической модели – это модель часов. Время тоже становится гомогенным, измеряемым. Это «время торговцев», замещающее «время крестьян» (Жак ле Гофф). Новый научный дух выковывает техническую ментальность. Основной задачей техники является аккумулировать полезность, т.е. помогать в производстве полезных вещей.
Существует очевидное совпадение между этим научным оптимизмом и устремлениями класса буржуазии утвердиться на национальных рынках, создание которых идет рука об руку с созданием централизованных королевств. Буржуазное мировоззрение рассматривает в качестве «реальных» только исчисляемые вещи, т.е. рыночные ценности. Позже Жорж Сорель назовет теорию прогресса «буржуазной доктриной».
В XVIII в. классические экономисты (Адам Смит, Бернар Мандевилль, Дэвид Хьюм) в свою очередь реабилитировали ненасытное желание: по их выкладкам, нужды человека способны непрерывно увеличиваться. По их мнению в природе человека всегда желать большего и действовать соответственно, непрерывно изыскивая свой интерес. Будучи связанными с оптимизмом, эти воззрения сделали относительной тематику первородного греха или постарались стереть память о ней.
Новые умы особенно подчеркивали накопительный характер современного знания. Выводом из этого становится необходимость существования прогресса: чем больше будет всего, тем лучше будут идти дела. Хороший разум «состоит из всех, которые ему предшествовали», что подчеркивает превосходство современных людей. В Средневековье Бернар из Клерво говорил: «Мы – карлики, стоящие на плечах у гигантов». А вот в Новое время авторитета древних уже не стало. Напротив, Традиция стала рассматриваться как препятствие на пути марша рассудка. Сравнение прошлого с настоящим, всегда в пользу последнего помогло раскрыть движение к будущему. Само это движение стало трактоваться в повелительном наклонении: прогресс, рассматривавшийся ранее как цель движения, стал отныне распознаваться как принцип эволюции.
Другой идеей, уже сформулированной Августином, является идея о едином человечестве, которое постепенно избавляется от «детства» первых веков, чтобы войти во взрослый возраст. Тюрго говорит о «роде человеческом, рассмотренном с самых своих истоков…который в глазах философа, несмотря на всю свою необъятность, имеет и свое детство и свое взросление». Механизм здесь уступает место органицистской метафоре, но это парадоксальный органицизм, поскольку он не имеет представления ни о старости, ни о смерти. Эта идея коллективного организма, становящегося все более «взрослым», положила начало современной идее развития, понимаемого как безграничный рост. В восемнадцатом столетии это привело к определенному презрению к детству, которое шло рука об руку с презрением к началу и к происхождению, понимавшимся как низшие состояния.
Понятие «прогресса» подразумевает также идолатрию нового: всякое новшество априори лучше только, исходя из его новизны. Данная жажда нового, которое позиционировалось как синоним лучшего, стала одной из тяжелых маний современности. В искусстве она привела к появлению авангарда, имеющего свои аналоги в политике.
Теория прогресса обладает всеми своими составляющими. Тюрго в 1750 г., а затем Кондорсе выразили ее в следующей формуле: «Вся совокупность рода человеческого постоянно идет к все большему совершенству». История человечества отныне трактуется как нечто формально и актуально единое. От христианства здесь остается идея о будущем совершенстве человечества и о том, что оно движется к единой цели. При этом отброшена роль Провидения, место которого заступает человеческий рассудок. Универсализм отныне основывается на предпосылке «единое и целое в каждом», игнорирующей все контексты, сметающей все частные различия.
Параллельно человек позиционируется в теории прогресса не только как существо с неутолимыми желаниями и нуждами, но и как существо совершенствуемое до безграничности. Новая антропология рассматривает человека изначально как чистый лист бумаги, как комок мягкой и податливой глины, или наделяется абстрактной «природой», совершенно оторванной от конкретных условий его существования. Человеческое разнообразие, индивидуальное или коллективное, рассматривается как несущественное и свободно трансформируемое образованием или средой. Понятие искусственного становится центральным и является синонимом рафинированной культуры. Человек может достичь человечности, только преодолев природу, от которой надо освободиться, чтобы стать «цивилизованным».
Таким образом, человечество должно освободиться от всего, что создает препятствия на его пути к прогрессу: от «предрассудков», «суеверий» и «груза прошлого». Отсюда косвенно вытекает оправдание террора: если необходимой целью человечества является прогресс, то тот, кто стоит преградой на его пути, должен быть подавлен; тот, кто противится прогрессу человечества может быть с полным правом исключен из его рядов и объявлен «врагом народа» (отсюда сложности в примирении двух кантовских тезисов о равном достоинстве людей и прогрессе человечества). Тоталитарные режимы Модерна (советский коммунизм, национал-социализм) вывели из этого идею «лишних людей», одно лишь существование которых мешает наступлению «прекрасного нового мира».
Такое отрицание природы и прошлого часто представляли как отказ от детерминизма. В действительности же детерминация прошлым просто сменилась детерминацией будущим, поиском «смысла истории».
Присущий теории прогресса оптимизм распространился на все сферы, на человека и общество. Царство разума должно было распространиться на общество, «прозрачное» и умиротворенное. «Приятная коммерция» (Монтескье), считавшаяся желанной для всех слоев общества, должна была заменить конфликт (прогрессисты наивно считали, что возможно построить бесконфликтное общество) торговым обменом. Аббат де Сен-Пьер еще до Канта выступил с проектом «вечного мира», жестко раскритикованным Руссо. Кондорсе призывал рационально усовершенствовать язык и орфографию. Мораль должна была стать чем-то вроде науки. Система образования должна была отучить детей от всех «предрассудков», которые понимались как источник всякого социального зла, и научить их действовать только с помощью разума.
Движение человечества к счастью было проинтерпретировано и как достижение морального совершенства. Люди Просвещения считали само собой разумеющимся, что в будущем разум усовершенствуется, и человечество станет морально лучше. Прогресс уже не считался чем-то внешним по отношению к существованию. Он должен был трансформировать человека. Прогресс, достигнутый в одной области, неизбежно должен был перекинуться на остальные. Материальный прогресс должен был повлечь за собой прогресс моральный.
В политическом плане теория прогресса исполнена духом отрицания политики. Взгляд теоретиков прогресса на Государство крайне амбивалентен. С одной стороны, Государство нарушало автономию экономики, считавшейся преимущественной сферой «свободы» и рационального действия. Уильям Годвин говорил, что правительства по своей природе создают препятствия на пути человека вперед. С другой стороны, в контрактуалистской теории Гоббса, Государство позволяло человеку преодолевать противоречия, вытекающие из его «природного состояния». Таким образом, государство считалось одновременно двигателем прогресса и его препятствием.
Наиболее распространенной является идея о том, что политика сама должна стать рациональной. Политическое действие должно перестать быть искусством, управляемым принципом мудрости и стать наукой, управляемой принципом разума. В просвещенческой картине мира общество выглядело как механизм, а люди – как его винтики. Оно должно управляться по принципам, столь же незыблемым как и научные принципы физики. Монарх рассматривался как механик, в обязанности которого входило развивать «социальную физику» к «наибольшей общественной пользе». Эта концепция послужила причиной появления технократии и административно-управленческого понимания политики у Сен-Симона и Огюста Конта.
Рассматривая прогресс, очень важно знать, является ли он бесконечным или останавливается на какой-либо финальной стадии, которая станет либо абсолютной и последней новизной, либо восстановлением прошлого совершенного состояния: гегелевский синтез, бесклассовое общество Маркса, «конец истории» Фрэнсиса Фукуямы и т.д. Можно также задаться вопросом, познаваема ли финальная цель истории (если она существует). В какую сторону разворачивается прогресс или он разворачивается только на самого себя?
Здесь либералы имеют обыкновение полагать прогресс в качестве бесконечного улучшения человеческого состояния, в то время как социалисты думают, что у прогресса есть счастливый определенный конец. В этом втором отношении смешиваются прогрессизм и утопизм: поступательное движение должно привести к стационарному состоянию, история движется лишь для того, чтобы яснее обрисовать свою цель. Первое направление претендует на то, чтобы быть более реалистичным. Но так ли это? С одной стороны, если человек движется к совершенству, которое должен реализовать, то не наступит ли день, когда совершенствование прекратится? С другой стороны, если у прогресса нет познаваемой цели, то как оценить является ли последующая стадия развития общества прогрессом по отношению к предыдущей?
Другой вопрос: является ли прогресс безличной, неконтролируемой силой или люди могут вмешиваться в него, чтобы ускорить его поступательное движение или отбросить то, что ему мешает? Является ли прогресс постоянным и непрерывным или подразумевает качественные скачки и разрывы? Можно ли вмешавшись в прогресс улучшить его ход или таким образом есть риск, напротив, его замедлить? В этом аспекте либералы, сторонники «невидимой руки» также отличаются от социалистов, кажущихся волюнтаристами и революционерами.
Теория прогресса достигает своего апогея на Западе в XIX веке. Она переформулируется в новую эпоху, отмеченную промышленной модернизацией, научным позитивизмом, эволюционизмом и большими историцистскими теориями.
Теперь акцент смещается более на науку, нежели на разум в философском понимании этого слова. Надежда вызревает теперь вокруг научной организации общества. Наука является отныне матрицей всех феноменов. Это тема, к которой постоянно возвращаются Фурье со своими фаланстерами, Сен-Симон со своими технократическими принципами, Огюст Конт со своим «Катехизисом позитивизма» и «религией прогресса».
Термины «прогресс» и «цивилизация» становятся почти синонимами. Кстати, это служит обоснованием колонизации, которая необходима для того, чтобы повсюду распространить блага цивилизации.
Понятие прогресса было переформулировано в свете дарвиновского эволюционизма. Эволюция живого существа также была интерпретирована как прогресс (особенно Гербертом Спенсером, считавшим прогресс эволюцией от простого к сложному, от гомогенного к гетерогенному). Итак, условия прогресса ощутимо изменились. Механицизм Просвещения теперь стал сочетаться с биологическим органицизмом, в то время как апология пацифизма уступила место воспеванию «борьбы за жизнь». Прогресс теперь становится селекцией наиболее «способных» («лучших») в перспективе конкуренции. Такая интерпретация устраивает западный империализм: цивилизация Запада самая лучшая, потому что она наиболее развитая.
Это было максимальным размахом социального эволюционизма. История человечества была разделена на последовательные «стадии», соответствовавшие различным этапам прогресса. Распределение различных культур в пространстве было экстраполировано на время: «примитивные» общества должны были служить западным людям примерами их собственного прошлого («современные предки»), в то время как Запад представлял их будущее. Кондорсе уже разделял историю общества на десять последовательных этапов. Гегель, Огюст Конт, Карл Маркс, Фрейд и т.д. предлагали похожие схемы. Например, от «верований» к науке, от «теологического» этапа к этапу позитивной науки, от «примитивной» или «магической» ментальности к ментальности «цивилизованной».
Эта теория, сопряженная с научным позитивизмом, которая затрагивает в первую очередь антропологию, и питает иллюзию о том, что можно расположить культуры на ценностной шкале, породила расизм. Последний рассматривает традиционные цивилизации либо как определенно низшие, либо как «запаздывающие в развитии». «Цивилизаторская миссия» колониальных держав состоит в том, чтобы преодолеть это опоздание. Расизм же полагает, что существует универсальный критерий, всеобъемлющая парадигма, позволяющая выстроить иерархию культур и народов. Он прямо связан с универсализмом прогресса, скрывающим неосознанный или замаскированный этноцентризм.
Мы не будем обсуждать здесь ни критику идеи прогресса, разворачивающуюся в эпоху Модерна, начиная с Руссо, ни противопоставленные теории прогресса многочисленные доктрины упадка иди декаданса. Отметим только, что последние часто (но далеко не всегда) представляют собой негативных двойников, зеркальные отражения идеи прогресса. Идея необходимого движения в истории сохраняется, но в обратной перспективе: история воспринимается не как постоянное развитие, но как неумолимый регресс. Фактически, учения об упадке или декадансе еще менее объективны, чем прогрессизм.
На протяжении как минимум двадцати лет не перестают появляться работы, разоблачающие «иллюзию о прогрессе». Некоторые авторы даже объявили прогресс «мертвой идеей» (Уильям Пфафф). Действительность, однако, имеет гораздо больше нюансов. Сегодня теория прогресса ставится под вопрос, но несомненно, что она выживет в различных формах.
Тоталитарные режимы 20 века и две мировые войны подорвали оптимизм двух предшествующих веков. Утрата иллюзий и крушение революционных надежд привели к идее о том, что современное общество, каким бы бессмысленным и безнадежным оно не казалось, является единственно возможным. Общественная жизнь все больше воспринимается в оптике фатализма. Грядущее, которое становится все более непрогнозируемым, вызывает больше тревог, нежели надежд. Углубление кризиса кажется более вероятным, чем «светлое будущее».
Идея прогресса дала серьезную трещину. Никто уже больше не верит в то, что материальный прогресс делает человека лучше, а прогресс, достигнутый в одной области, автоматически перекидывается на другие. В «обществе риска» (Ульрих Бек) прогресс проявляет себя амбивалентно. Уже признается, что за те преимущества, которые он дает, приходится платить дорогой ценой. Дикая урбанизация породила многие социальные патологии, а промышленная модернизация вызвала беспрецедентную деградацию естественной жизни. Массивное разрушение окружающей среды дало начало многочисленным экологическим движениям. Они были первыми, кто усомнился в однозначности прогресса. Безграничное развитие технической науки поставило вопрос о своих целях. Прогресс наук уже не воспринимается как нечто, приносящее человечеству безусловное благо. Само знание, как видно из дебатов, которые были вызваны появлением биотехнологий, воспринимается как источник угроз. Все более и более широкие слои населения понимают, что оно не является синонимом лучшего. Они начинают проводить различие между «иметь» и «быть», между материальным благополучием и счастьем в собственном смысле этого слова.
И все же тематика прогресса продолжает оставаться привлекательной, по крайней мере, в символическом плане. Политический класс продолжает взывать к «прогрессивным силам» против «людей прошлого» и обличать «средневековый обскурантизм». В общественном дискурсе слово «прогресс» сохраняет положительный резонанс.
Ориентация в будущее также остается доминирующей. Даже если ближайшее будущее воспринимается как источник угроз, с далеким будущим связываются надежды на лучшее. Культ новизны, обретший новую опору в виде технологий и смены мод, диктуемой масс-медиа, сегодня сильнее, чем когда-либо. Многие продолжают верить и в то. что человек тем свободнее, чем более он избавился от своих биологических характеристик и исторической обусловленности. По прежнему правит бал индивидуализм, опирающийся на плохо замаскированный западный этноцентризм и идеологию прав человека. Сейчас он выражается в разрушении семьи, упразднении социальных связей и дискредитации традиционных обществ стран Третьего мира, где индивиды все еще сохраняют солидарность в рамках своей общины.
Однако, прежде всего, идеология прогресса остается представленной в своей продуктивистской версии. Она подпитывается идеей о том, что бесконечный рост является нормальным и желательным, о том, что лучшее будущее обязательно наступит благодаря увеличению объема производства материальных благ, чему поспособствует мондиализация. Эта идея инспирирует сегодня идеологию «развития», которая по-прежнему рассматривает общества Третьего мира как «недоразвитые», а западную модель производства и потребления как вожделенную цель для всего человечества. Эта идеология развития была сформулирована в 1960 году Уолтом Ростоу, перечислившим стадии, которые должны пройти все страны мира для достижения уровня потребления развитого торгового капитализма. Как показали различные авторы (Серж Латуш, Гильберт Рист), теория развития является всего лишь верованием. Когда это верование будет отброшено, кончится и идеология прогресса.источник - http://konservatizm.org/konservatizm/theory/210410121342.xhtml
- Нет комментариев

katehon
Откомментировал фильм «Утомленные солнцем»
Первая часть еще туда‑сюда...
А вот фильм УС‑2, Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоблин, не рекомендует к просмотру.
Читайте http://oper.ru/news/read.php?t=1051606225
От себя добавлю, что фильм УС‑2 действительно сомнителен...- Нет комментариев

katehon
Эпический FAIL Утомлённых солнцем 2
Великая Отечественная, для мозга, кризис, не пожалеете, просто о сложном, постмодерн, !!!Ахтунг!!!, Триллер, Повод задуматься, Для всех, Ужасы
Пучков, он же Гоблин, в очередной раз взорвал интернет своим постом. Надеюсь, Дмитрий Юрьевич не обидится, что я его перепечатал здесь.
Я даже не знаю смеяться или плакать. Впрочем читайте сами. Так же смотрите комменты на странице Пучкова. Я представляю себе довольное лицо Артёмия Лебедева, которому, по всёй видимости, нереально подфартило, что фильм провалился.
источник - http://oper.ru/news/read.php?t=1051606225
По словам Никиты Сергеевича, его новый фильм «Утомлённые солнцем 2» снимался «в противовес» фильму Спилберга «Спасение рядового Райана». Никита Сергеевич посмотрел американскую поделку в Париже и был серьёзно удивлён: с чего бы это французы уверены в том, что войну выиграли американцы?
Причина возмущения неясна. Как-то так получилось, что Францию от немецких оккупантов освободили именно американцы. А вот советские войска французы в глаза не видели. При демократии французам и американцам вовсе не обязательно знать о том, кто и как воевал в России. Идеологически верно знать только то, что показывают по демократическому телевидению. А там показывают только про успехи США. Ну да ладно. Берлин всё равно взяли мы.
Судя по всему, государство надеялось получить качественно снятый фильм патриотической направленности, создание которого и поручили заслуженному мастеру отечественного кино – Никите Сергеевичу Михалкову. Получив по одним сведениям 42 миллиона долларов, по другим все 50, восемь долгих лет Никита Сергеевич снимал эпохалку. Наш, и в первую очередь свой, ответ бездуховному Голливуду. Кстати, у пошлого голливудского блокбастера бюджет ненамного больше, 70 миллионов долларов. На многочисленных презентациях Никита Сергеевич лично рассказывал о невиданных масштабах съёмок горящего моста и бомбёжки дырявыми ложками, неизменно подчёркивая, что «все деньги на экране, ни копейки не украли».ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...По ходу съёмок Никита Сергеевич многажды рассказывал о титанической подготовительной работе, предшествовавшей фильму. Дескать, отсмотрены многие километры кинохроники, прочитаны миллионы страниц воспоминаний и документов. Надо понимать, не только им лично, но и творческим коллективом в целом. Подчёркивал, что читали не только общеизвестное, но и ранее недоступное.
Знаете ли вы, говорил Никита Сергеевич, что немецкую форму задизайнил Хуго Босс? А ведь эта форма составляет 20 процентов боевых успехов вермахта! И монокли у них, говорит, были не просто так — через них было очень удобно смотреть на унтерменшей. К сожалению, Никита Сергеевич ничего не сказал о том, кто задизайнил советскую военную форму, в которой наши солдаты взяли Берлин и разгромили нацистов. Хотя совковая форма, безусловно, была навязана Сталиным и только мешала.
Не совсем ясно, зачем для постановки художественного фильма углубляться в документы? Всем интересующимся давно очевидно, что этого не следует делать даже при съёмках документальных фильмов. Вот, к примеру, Алексей Пивоваров с канала НТВ старательно изучил документы, в том числе — доселе невиданные, а потом снял сугубо документальный фильм про Ржев, переврав и оплевав всё, что сумел.
Зачем говорить о какой-то документальности применительно к художественному фильму? Конечно, чтобы донести до зрителя Правду. Граждане России обожают фильмы исторического плана о родной стране. И если в рекламе говорится о том, что фильм имеет документальную основу — приток зрителя обеспечен. Достаточно вспомнить рекламные лозунги недавних шедевров «Сволочи» и «9 рота». Заявив, что «фильм основан на реальных событиях», автор немедленно вызывает у зрителей доверие. Ну а потом, само собой, может снимать что угодно – как и положено творцу. А когда начнут ловить на лжи – рассказывать, что и не собирался делать ничего «исторического», а про реальные события говорил просто так. Именно это говорили и создатели «Сволочей», и создатели «9 роты». Именно это будет говорить после премьеры Никита Михалков.
И вот 17 апреля 2010 года состоялась долгожданная премьера – сразу в тридцати городах. В Москве, к сожалению, не на Красной площади, как планировали изначально, а всего лишь во Дворце съездов. Будем откровенны: увиденное потрясло многих. Конечно, определенные подозрения внушал уже постер, как будто выбранный на конкурсе скандальных фотожаб, но реального размаха эпического полотна невозможно представить даже по нему. Учитывая резко отрицательное отношение отечественного зрителя к отечественным же фильмам, вряд ли кто-то пойдёт в кино. Поэтому кратко излагаю сюжет. Сделать это непросто, ибо воспроизвести лихие монтажные решения не способен.
Тем, кто не видел первой серии, кратко поясняю: главного героя фильма, комдива Котова, в первой серии расстреляли, а главный злодей самоликвидировался. Во второй серии они чудесным образом оживают, и с этого мощного сюжетного хода начинается эпопея «Предстояние».
Итак, в гости к расстрелянному в прошлой серии главному герою приезжает лично Сталин, в компании с Берией, Буденным и Ворошиловым. Сталин с нечистой, мерзкой кожей, отвратительно рябой — первое подтверждение сугубой документальности. Желание глумиться над внешним обликом — оно показательно. Гнусный Сталин рассуждает о том, как мама кормила его хлебом с маслом, политым вареньем. Остальные персонажи лакейски-угодливо хихикают. Особенно талантливо это делает жена персонажа Михалкова — ажно привзвизгивает и подпрыгивает от восторга. Вот это лакейски-угодливое хихиканье выполнено на крепкую пятёрку — Никита Сергеевич как представитель древнего дворянского рода знает, как должны вести себя лакеи.
В кадр заносят торт с шоколадным портретом Сталина. Товарищ Сталин предлагает съесть товарища Сталина и берёт со стола нож. Странно, конечно, что не вынимает финку из сапога, но в ответ на предложение гостя Никита Сергеевич хватает его за затылок и суёт прыщавой нечистой рожей в торт. Надо понимать, таким образом Никита Сергеевич демонстрирует своё отношение к власти, каковую с удовольствием тычет рожей в торт. Судя по данным отношениям, героя Михалкова не зря посадили и очень странно, что не расстреляли. Ибо это тоже вполне в духе понимания психологии лакея, который вчера умело прислуживал, а сегодня над вчерашним хозяином глумится. Увы, макание Сталина рожей в торт оказывается сном и персонаж Михалкова с воем просыпается в лагере. Особую пикантность данной сцене придаёт наличие трёх сталинских премий у отца создателя этого замечательного эпизода.
Итак, ткнув Сталина рожей в торт, отважный комдив Котов внезапно просыпается в лагере. Повествование в фильме постоянно перескакивает из довоенного прошлого в военный сорок третий, из сорок третьего – в сорок первый, и так без конца. После примерно пятого прыжка во времени это начинает раздражать, ибо сюжет и так нескладный, а тут ещё такое.
Кстати, из фильма неясно, за что же этот замечательный человек сидит? Военный, генерал – за что? Может, как участник заговора Тухачевского? Может, хотел Родину немцам продать, да не успел? Неясно.
В лагерь прикатывает НКВД, руководитель которого объявляет подъём и сортирует заключённых: уголовников — на плац, политических — в сарай лесопилки. Сообщает Котову, что ему политическую статью заменили на уголовную. Сообщает всем, что началась война и заключённые будут этапированы пешим ходом. После чего отдаёт команду расстрелять политических внутри лесопилки из пулемётов. Поражает продуманность действий кровавых упырей: лагерь расположен не на Колыме, а возле западной границы, конвой не боится нападения толпы заключённых, руководители конвоя ведут себя как конченые идиоты — сплошь яркие проявления историчности и документальности. Умный среди этого сброда, понятно, только сам Михалков. Умного комдива Котова умело оттеняет сельский дебил-уголовник в исполнении актёра Дмитрия Дюжева.
И тут на лагерь налетают немецкие самолёты. Ещё один точный исторический штрих: нацистам было не до блицкрига, они не бомбили аэродромы и колонны транспорта, они уничтожали советских заключённых. Не знаю, что за бомбы они бросали, но только убили всех без остатка. Спаслись только Михалков и руководимый им Дюжев — паркур-style.
Данная сцена, очевидно, с точки зрения режиссёра символизирует Советский Союз на момент начала войны: палачи и жертвы, уголовники и придурки, причём придурки в основном почему-то нерусские. Впрочем, нормальных людей в фильме практически нет. Даже пионеры оказываются детьми врагов народа или стукачами, пионервожатые — братьями врагов народа или – о ужас!!! – сотрудниками НКВД. Особняком от тупого быдла представлена семья Котова-Михалкова в полном составе, но об этом чуть ниже.
Никита Сергеевич рассказывал о том, что в его новом фильме даже в минутных эпизодах снимались только великие актёры. Например, задают вопрос уголовному авторитету в исполнении Валентина Гафта – а что это за статья такая? Карикатурный Гафт умело выпучивает глаза, листает перед собой воображаемый кодекс, немного тупит, а потом рассказывает – про что статья. Исключительно правдивое и характерное поведение для уголовника, который лет двадцать ничем кроме обсуждения статей с соседями по нарам не занимался и знает статьи УК лучше любого адвоката. Мастер эпизода!
Тут надо остановиться на актёрской игре в целом. Качественную актёрскую игру в фильме демонстрируют трое: Меньшиков, Миронов и Маковецкий. Все остальные с разной степенью успешности имитируют Никиту Сергеевича: неразборчиво бормочут, взвизгивают, подвывают, таращат глаза, хихикают. Смотреть на это, мягко говоря, странно.
Далее включается «сюжет из будущего», где два упыря – Сталин и Берия, безжалостно допрашивают сотрудника НКВД Меньшикова. Нестриженый до гнусной патлатости Меньшиков поражает интеллектом и выдержкой ничуть не меньше идиотов из НКВД в лагере. Сразу видно, аристократ. Сталин корчит страшные рожи, жутко зыркает исподлобья и внешним обликом больше всего напоминает Носферату из фильма режиссёра Мурнау. Ну, только что не ездит по кабинету как Гэри Олдмэн в роли Дракулы, а так похож неотличимо. Именно так, надо понимать, по мнению режиссёра выглядят руководители, именно этим занимаются в рабочее время.
Товарищ полковник мертвеет от ужаса, постоянно вскакивает по стойке смирно, смотрит перед собой и ведёт себя на допросе как советский интеллигент. Каковым, судя по фразам «Как я должен отвечать: как чекист или как человек?», при таком звании и является. Это, надо понимать, правда характера. Упырь Сталин даёт команду аристократичному Меньшикову разыскать комдива Котова.
Меньшиков едет в пионерский лагерь "имени Павлика Морозова", где расхаживает в чёрном плаще и в чёрных сапожищах чисто Дарт Вейдер – только что имперский марш не играет да не пыхтит страшно. А в пионерлагере тупые дети совков отрекаются от своих родителей — врагов народа и пишут друг на друга доносы. Не отрекается только репрессированная дочка репрессированного Михалкова, которая переехала из лагеря для членов семьи изменников Родины в пионерский лагерь и трудится там пионервожатой. Это особенно яркий пример документалистики происходящего — вся страна в лагерях, но особо толковые дети врагов народа руководят детским коммунистическим движением. Конечно, дочка не поддаётся на уговоры упырей-большевиков. И там, где гордая девочка только плачет, герой актёра Панина буквально обоссывается от ужаса.
Это, кстати, весьма показательно. Дочка в фильме не хочет отрекаться от папы. Мало ли, что власти не нравится мой папа? Ведь он мой папа, я не буду от него отрекаться. Потому что так нельзя. И в то же время нам всем сегодня предлагают отречься от наших отцов и дедов. Несмотря на то, что они наши отцы и деды. Натуральная шизофрения.
Снова возвращаемся в 1941 и видим отступление войск и бегущих граждан от наступающих немцев. На мосту какой-то очевидно ненормальный замполит пытается остановить отступление, под мостом бездушные сапёры закладывают заряды. Офицер, пытающийся остановить бегство войск, показан полным идиотом – толковые солдаты немедленно дают ему по морде и скидывают с моста. Это ж надо такое удумать — требовать от людей сражаться! Мордатые солдаты-дезертиры, оседлав грузовичок, орут вылезшему из воды офицеру: да ты чё говоришь такое, ты немцев видел?! И убивают офицера, чтобы не мешал бежать дальше. Это тоже свидетельство документальности: идиотские требования выполнять воинский долг и животный инстинкт сохранить свою шкуру.
Злые сапёры — тоже предельно тупые, потому что начальник русский, а подчинённый нерусский (сидит под мостом и смотрит под юбки бегущим русским бабам). Начальник перекрывает движение по мосту, в споре с отступающими нечаянно машет флажком, а тупая чурка тут же подрывает мост с людьми. На берег выезжают немецкие танки с мега-штандартами, установленными на танках как паруса. Чисто Warhammer. Офицер Мерзликин тут же бросает грузовик с ранеными и прыгает в воду. Следом за ним бросается в реку офицер-сапёр. Вдвоём они присоединяются к Михалкову и Дюжеву, проплывающим мимо на бревне.
Кстати, Котов снабжен железной рукой со встроенным в железный палец секретным ножом — чисто терминатор. А оперчасть в лагере, значит, не в курсе, что заключённый с холодным оружием бегает. Вот она, правда жизни.
Далее тёплая компания оказывается, как нетрудно догадаться, в штрафбате, которых в сорок первом не было (см. Историческая правда). Штрафбат сидит в чистом поле в траншее. Не в ячейках, как тогда было принято, а в траншее. Ни слева, ни справа никого нет. Оружия в штрафбате тоже нет – очевидно, так эффективнее всего держится оборона на ответственном участке. Поперёк окопа стоит неизвестно откуда взявшаяся пушка ЗиС-3. Это сейчас президента Польши Качиньского можно отвезти на кладбище на лафете пушки Завода имени Сталина. А в 1941 таких пушек ещё не было.
Руководит штрафным сбродом актёр Миронов, отчаянно хамящий личному составу, сморкающийся в ладонь и умело вытирающий сопли об шинели несогласных. Под руководством этого военного личный состав окружает окоп спинками от кроватей – очевидно, против танков. Судя по всему, штрафбат закрывает направление особо страшного удара, ибо ни оружия у них нет, ни других подразделений с флангов.
На усиление штрафбата прибывают кремлёвские курсанты – при полном параде, с оружием. Бывалый военный Миронов в присутствии личного состава немедленно обливает помоями капитана, командира курсантов. Хамство в адрес старшего по званию вызвало одобрительный смех в зале. Кто ж не обрадуется, когда командира публично унизили? Правда, в советских уставах было прописано, что даже сержанта нельзя отчитывать при солдатах. Но тут ведь офицеры, да и зритель откликается живо.
Курсанты запрыгивают в окоп, где народ уже как шпроты в банке – очевидно, чтобы при попадании снаряда или гранаты за раз убивало побольше. Поперёк окопа – пушка, чтобы стреляющие по ней танки тоже убивали побольше. Каждый занимается своим делом: кремлёвские курсанты из числа детей расстрелянных мулл молятся аллаху, другие мечутся по окопам, третьи зачарованно слушают байки Котова.
Танки, само собой, приезжают с другой стороны – окоп вырыли не туда. Навстречу танкам выбегает курсант – он решил, что это советские танки. Из люка одного из танков вылезает немец, бросает грузину шоколадку с Гитлером на обёртке, и жестами просит отойти. Глупый курсант пытается остановить фашистский танк, тыча в него штыком. Штык застревает, курсант падает под танк, курсанта размазывает по земле гусеницей. Начинается бой – адская стрельба в тумане и дыму. Пушка метким выстрелом подбивает танк, другой танк метким выстрелом подбивает пушку. Вместе с пушкой уничтожено столпившееся вокруг пушки командование. Немецкие танки носятся над окопом, пропустив окоп между гусениц и ведя пулемётный огонь по бестолковым русским. Никита Сергеевич мечется по позиции чисто ниндзя, работая по немцам лопатой и пистолетом – что тут скажешь, генерал. Только танком и смогли его угомонить. Через пару минут после начала боя всё застилает дым, ничего не видно – «Рядовой Райан» отдыхает. Отчётливо видно – бюджет потрачен не зря.
Далее показывают поле боя: из-за куч трупов не видно земли, кругом горят танки. Только что не было даже винтовок, не говоря про гранаты, а тут вдруг подбитые танки. Возле пушки подбирает вывалившиеся кишки Миронов. Тяжело раненный командир сокрушается по поводу того, что мальчиков призывного возраста посылают на убой, проклинает Сталина и собравшихся в Кремле идиотов. На премьере в Кремлёвском дворце это прозвучало крайне актуально. Что характерно, сострадания не вызвал ни один персонаж.
На втором часу просмотра наступило лёгкое отупение от увлекательности происходящего. Но расслабляться было рано — впереди ещё два часа исторической правды. На экране какой-то порт, где полным ходом идёт эвакуация: раненых и детей грузят на баржу. Тяжёлых тут же относят в трюм (очевидно, там воздух лучше), трюм наглухо закрывают железными люками. Детей сопровождает дочка главного героя, Надя Котова. Рядом на небольшой пароходик грузят партийный архив и барахло некой блатной дамы, вперемешку с гипсовыми бюстами Сталина.
В открытом море к барже подлетают немецкие самолеты. Компьютерные модели самолётов сделаны неважно, в массе компьютерных игр сделано лучше. Фашистские лётчики, только что умело и безжалостно уничтожавшие беженцев и заключённых, внезапно вспоминают про какую-то конвенцию. Очевидно, ту самую, в строгом соответствии с которой сжигали людей вместе с деревнями и миллионами уничтожали в концлагерях.
Конвенция – дело серьёзное, но один из стрелков решает в шутку на баржу насрать, и предлагает пилоту спикировать. Это интересный момент: ведь пилот обычно офицер, а стрелок – солдат. Но уже открывается «фонарь», изготовившийся к дефекации стрелок высовывает за борт самолёта голую жопу.
Невольно возникает вопрос: кто-нибудь из создателей фильма пробовал посрать за борт самолёта, летящего со скоростью хотя бы 400 километров в час? Ну или хотя бы плюнуть в окно машины, идущей 100 километров в час? Представляют ли создатели, что на скорости 400 километров в час произойдёт с говном, как его размажет и куда оно улетит? Жаль, режиссёр нам этого не показал – думаю, ветеранам было бы интересно.
Естественно, на советском корабле царит бардак, не все тупые совки сдали оружие, некий раненый достаёт ракетницу и метко убивает немца, проносящегося над баржей с голой жопой. Пилот впадает в ярость и на бреющем сносит капитану баржи башку колесом. Командир немецкого звена, поджидающего когда солдат-стрелок просрётся на баржу, внезапно принимает решение: теперь мы всех их должны уничтожить! И приказывает потопить судно. Несчастные фашисты просто вынуждены проявить необходимую жестокость из-за дикой выходки советских варваров. Пулемётные очереди по раненым и детям, бомбы на палубу, баржа пополам, в запертом трюме бьются тонущие раненые. В сцене утопления баржи режиссёр Михалков ловко даёт достойный ответ не только Спилбергу, но и Камерону с его дурацким блокбастером «Титаник».
В живых остаются только дочь Котова и актёр Гармаш. Оба барахтаются в воде возле морской мины, ухватившись за «рога». Актёр Гармаш, по фильму лишившийся ног солдат, сообщает пионервожатой: я, говорит, священник! А давай-ка я тебя покрещу! Поступок, мягко говоря, странный, ибо крещение – акт осознанный, к нему надо серьёзно готовиться и уж как минимум требуется верить в бога. Но Гармашу на это плевать – он по-быстрому крестит Надю, суёт ей под нос свой крест – целуй! Ошарашенная натиском девушка целует крест, в зале раздаются жидкие, тут же затухшие аплодисменты.
После крещения удача героини резко возрастает: бог рушит в море и топит немецкий самолёт, который намеревался цинично добить героиню. Польза от крещения налицо! К сожалению, ничего не сказано о том, был ли немецкий пилот христианином? Может, у него папа был пастором? Это придало бы сцене ещё больше пикантности.
Пока Надя после стремительного крещения приходила в себя, священник Гармаш уплыл в чистое море, в строгом соответствии с христианскими заповедями покончив с собой. Многие думают, что самоубийство – тяжкий грех, полное отрицание воли божьей. Но Гармашу виднее. Вдалеке мимо девушки Нади проплывает пароходик с партархивом, и не замечает ни её, ни мину. А немецкая мина вывозит её на берег – надо думать, по воле божьей, ведь Надя теперь крещёная. Девушка Надя говорит немецкой мине: спасибо тебе, мина! Спасла ты меня! Крепко целует мину и вылезает на берег. А немецкая мина уплывает в море, где немедленно взрывает пароходик с коммунистическим партархивом, попутно уничтожая нехристей-матросов.
Тема религии раскрыта великолепно. Вера персонажей выражается в пылкой зачитке самодельных молитв и нечеловеческом везении уверовавших, которое почему-то обязательно приносит смерть всему живому вокруг. Оказался Котов в лагере — всех заключённых и охрану убивают. Приплыл к мосту — мост взрывают вместе с людьми, самолёты и танки расстреливают колонну беженцев. Живёт его дочь в пионерлагере — все дети и персонал гибнут на барже, она спасается. Зашла в деревню — убивают случайно забредших в эту деревню немцев, а всех жителей, включая детей, сжигают в сарае. Выживают только те, кто согласен слепо служить главному герою Котову. Никакой помощи ближним, вроде советов по обороне от опытного генерала, ни единой попытки спасти из воды хотя бы одного ребенка, Котов с семейством не предпринимают.
У бывшего комдива Котова в фильме две задачи: радоваться нападению фашистов на Родину (он так и говорит: война – наше единственное спасение) и отчаянно дурковать, радуясь очередному «спасению». Но в христианской мифологии явления подобного рода не есть признак вмешательства божественной силы или подвигов истинно верующего. Скорее наоборот – это явные признаки деятельности конкурирующей организации, чей рекламный слоган звучит так: я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. И никакие иконы, чудесным образом сияющие в разнесённой бомбой церкви, мёртвых не оживят.
Правильный пример верующего продемонстрирован как раз в фильме «Спасение рядового Райана», где истово молящийся снайпер не забывает валить без промаха фашистов. И гибнет в бою не завывая молитвы, а спасая войсковых товарищей.
Не удивлюсь, если во второй части нам покажут известный сюжет о том, как служители культа забрались в самолёт и облетели Москву, высунув в открытую дверь икону. Почему, собственно, войска Гитлера и не смогли нашу Москву взять. А вот Гитлер был тупой, он не догадался облететь Берлин, высунув икону в дверь. Потому-то мы Берлин и взяли. А героизм и отвага наших бойцов не при чём.
Далее через деревню проходит немецкая колонна. Трое немецких велосипедистов остаются набрать воды. Один солдат изымает у местных цыган лошадь с повозкой – для немецких военных нужд. Цыгане, конечно, тут же принимаются бренчать на гитарах, петь, плясать и скакать, надеясь задобрить европейца. Немцу это не нравится и он расстреливает назойливых цыган из автомата, технично добивая раненых. Самый просвещённый европеец (в очках) не выдерживает такого и в истерике мчится на велике прочь. Хозяйственный фашист решает прогуляться по деревне. Третий член команды не знает, за кем бежать. В немецкой армии, нагнувшей всю Европу, царят дисциплина и боевая выучка.
Тут в деревню непонятно откуда телепортируется крещёная Надя. Её замечает и за ней крадётся жрущий наши яблоки фашист. Надя в сарай – он шасть за ней. И тишина. В поисках товарища в сарай заходит второй фашист – и снова тишина. Тут возвращается впечатлительный очкарик и предлагает не ссориться из-за каких-то цыган. Однако уже поздно, войсковые товарищи жестоко заколоты вилами. Европеец в ужасе бежит за подмогой. Что характерно, немцы не делают в фильме ничего плохого. Всё плохое от немцев – только в ответ на некорректные действия тупых совков.
Выясняется, что Наде помогла некая барышня, до этого изнасилованная фашистами. Барышня здраво предлагает Наде бежать, но той интересно посмотреть, что фашисты сотворят с деревенскими, которых уже сгоняют к сараю? Когда становится ясно, что в наказание за двух убитых солдат сейчас порешат всю деревню, Надя рвётся «помочь». Спасительница объясняет, что деревенских, включая детей и женщин, немцы сожгут за дело, потому что они не защитили её от насильников и не открывали Наде, когда она стучалась в ставни. Далее барышня пояснила, что раз они с Надей крещёные, то бог хочет их спасти, а остальных, стало быть, сжечь, потому что они нехристи и так надо. Истерики, рыдания и вопли в духе легендарной русской актёрской школы прилагаются.
Интересны два заключительных эпизода мега-картины. В первом матёрый штрафбатовец Котов бежит по полю за упущенным «языком», а тот прячется от него в церкви. Котов тоже забегает в церковь и случайно находит сумку с фамилией дочери. Тут же забыв про немца, садится разбирать сумку и обнюхивать содержимое. Как с такими боевыми навыками удалось пережить гражданскую и дотянуть до сорок третьего — загадка. От коварного немца с костылём в руках Котова спасает не то бог, не то люфтваффе, экипаж которого отчаянно выпихивает из самолёта застрявшую авиабомбу аккурат над церковью. Бомба килограмм на 250 пробивает купол и чудесным образом повисает на люстре, а немец и Котов спасаются бегством. «Винсент, это было чудо!» Бомба взрывается, а на развалинах церкви сияет неповреждённая бомбой икона. На этой сцене не хлопали даже присутствовавшие на сеансе священнослужители. Восторженный пережитым немец учит Котова, что связывать руки пленным надо за спиной и хихикает, когда комдив по-отечески порет его, шалуна такого, ремешком. Что они вытворяли дальше – увы, осталось непонятно.
В финале показывают санитарку Надю, которая ищет раненых и находит обожжённого танкиста. Внезапно обгоревший танкист говорит Наде: покажи сиськи! В зале раздался радостный смех. Очевидно, по замыслу создателей это трагический момент, но пришедшая молодёжь над этим делом будет ржать повсеместно. Надя соглашается и на лютом морозе обнажает торс. Зритель видит сиськи со спины Нади, восхищённый танкист умирает. Не хватает только залихватской песни Чижа со словами «И молодая не узнает, каков танкиста был конец». Где-то далеко в окопе сидит Михалков. Конец фильма. Дорогие зрители, вас ждёт вторая часть – «Цитадель». Там, наверно, кроме «покажи сиськи» будет и «выпей йаду», и «убей себя ап стену».
По итогам ответ «Рядовому Райану» не получился. Не получился даже ответ отдельным сценам из фильма Спилберга, вроде эпической высадки на Омаха-бич. Ни 50 миллионов долларов бюджета, ни восьми лет работы над фильмом не хватило. Получилась отечественная версия «Бесславных ублюдков». Как и фильм Тарантино, фильм Михалкова не имеет никакого отношения к реальным событиям. Как и у Тарантино, все персонажи ведут себя и разговаривают как режиссёр, он же автор сценария. Только у Тарантино есть внятный сюжет, нормальный монтаж, гениальный Кристофер Вальц и звезда Брэд Питт. В нашем же случае — бессвязный набор короткометражек, бестолковая актёрская игра да никакой сценарий. Кстати, фильм Тарантино дороже ровно на гонорар Питта, на 20 миллионов долларов. Чего-то Квентин в кино не понимает.
Никита Сергеевич сперва говорил, что кино у него историческое, а потом начал говорить, что кино для молодёжи. Ветераны, говорит, вряд ли поймут, а вот молодёжь будет знать, что такое война. Оно, конечно, интересно, но молодёжь подобное вообще не смотрит – снято плохо, компьютерные эффекты никакие, смонтировано скучно, смотреть неинтересно. О каких сборах может идти речь? Остаётся только рассказывать, что «сборы – это не главное».
Почему получилось так? Наверно, потому, что у фильма не было толкового продюсера, который смотрит строгим глазом и руководит созданием. В результате Никита Сергеевич снял то, что хотел, и так, как хотел. Он так видит. Что получилось – можно сходить посмотреть.
Какие задачи стояли перед данным фильмом? Судя по всему, задача была ровно одна: десакрализация памяти о Великой Отечественной войне. Вы считаете, что ваши предки одержали великую победу? Да нет же, поглядите – они метались как скоты, они боялись всего на свете, дрожа от ужаса в грязи и в говне. Великая война, в которой победила наша некогда могучая держава? О чём вы – просто бог так захотел, и те, кто молился, победили, а остальных убил НКВД. Командование? Да не было никакого командования – вы же видите, в фильме нет даже ни одного замполита. Говно ваша война, и предки ваши – говно.
Нуждается ли наша страна в таком кино про войну? При нынешнем руководстве – безусловно, именно в таком и нуждается. Министерство Правды прилагает чудовищные усилия и тратит гигантские деньги на поливание нашей истории дерьмом. Могут ли наши режиссёры снимать хорошее кино? Давно уже очевидно, что не могут. До недавнего времени разве что Никита Михалков в нашем кино вздымался как утёс среди моря вяло плещущегося говна. И вот – финал.
Если нам нужны хорошие фильмы про войну, надо приглашать режиссёров из-за границы. Например, позвать того же Пола Верхувена. Снимать умеет, берёт недорого. Ну, приглашаем же мы тренеров для футболистов? Так и тут: надо позвать сценаристов, надо позвать режиссёров. Даже актёров можно позвать, западные актёры играют в среднем значительно лучше наших. Поставить задачу, и получится нормальное кино, ибо режиссёры с запада обучены делать то, что у них просят сделать. А не реализовывать свои фантазии за счёт налогоплательщиков. А на такое дешевле пригласить Ллойда Кауфмана из студии Troma, у него трэш получается не хуже.
И ты спросишь: так смотреть или не смотреть?
Если ты либеральная гнида, ненавидишь своих предков и считаешь, что немцев завалили трупами – беги бегом, это твой фильм.
Если же уважаешь своих предков, отдавших жизни за Родину – мой тебе совет, не ходи.источник - http://oper.ru/news/read.php?t=1051606225
еще рецензии:
http://on-line.lg.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2603
http://relax.ngs.ru/news/more/63470/
- 133 комментария

katehon
Особое мнение - 22.04.2010: Максим Шевченко
А с этой ведущей он явно заигрывает :-))
источник — http://echo.msk.ru/programs/personalno/673662-echo.phtml
- 4 комментария

katehon
Город Солнца – это утопия
стенограммаСергей Кургинян, политолог:
Город Солнца – это утопия. Там же не высоколобые сидят и платы паяют, стремясь принести корпорациям миллиарды долларов. Там прообраз коммунизма, другого устройства мира, создание нового человека – это совершенно другое пространство. Значит, вопрос заключается в том – где утопия? Утопия-то в чем? Заразить американских специалистов нашей утопией уже невозможно. Есть ли у нас утопия для этого города? Топия, новая топия. Топия – пространство. А второе – технологии. Утопии и технологии – вместе, а утопия без технологии – это напрасный труд. Где об этом написано – это конструктивный тоталитаризм, даже не авторитаризм, а тоталитаризм. Он начинает социально конструировать, двигаясь от этих точек, создает конструкцию абсолютно всего желаемого будущего, передает это будущее 1% населения, дальше строит какую-то связь этого населения с другими и начинает слой за слоем прилеплять правильным образом. Но это делает обезумевший от желания реализовать некий свой проект диктатор, может быть, дегенерат – и тогда все это кончается очень плохо. Может быть, гений – тогда это все кончается замечательно, тоже не без издержек, это всегда насильно. Если в утопии не применяются технологии, если нет утопии, а есть отдельная слабо накаленная точка в альтернативную среду, то эта точка поглощается этой средой или превращается в инструмент решения задач, свойственных этой среде. А среде свойственен один тип задач, он называется распил. Царь Мидас все превращал в золото, значит, если точка будет слабо накалена и помещена в агрессивную и сильно от нее отличающуюся среду, то будет поглощена средой, и там будет еще один распил, более или менее крупный, вне всякого отношения к желанию действующей власти, высших политических менеджеров, мечтающих о чем-то. Это хорошо, что они мечтают, это хорошо, что у них хватает мужества начать что-то делать. Но так просто все подвергнуть не только скепсису и такой разрушительной критике, что не хочется. Во-первых, слишком просто, а во-вторых, ну подвергли – и что дальше? Мне кажется, что главное заключается в том, что действующие лица наши политические и социальные хотят использовать ресурсы существующего общества, того, которое они получили, и существующую систему, которую они с огромным трудом построили для решения этих задач. И в принципе, это правильно, это самая комфортная вещь, потому что как только мы начнем переделывать общество и систему – это тушите свет! Но иногда бывает, что существующее общество, существующие инструменты не годятся для решения этих задач, нельзя нанотехнологии использовать с помощью отвертки, хорошей, пригодной для того, чтобы шурупы прикручивать в набор, купленный в “Икее”. Нельзя этой отверткой что-то другое делать, для каждой задачи нужно создать соответствующий инструментарий. Готового инструментария для решения задач построения в стране точек роста нет. Есть еще несколько проблем, связанных с этим. Шикарные условия и все прочее – замечательно! Но в эти условия помещались Капица или кто-нибудь еще, которые вырастали не в этих условиях. Потом они использовали эти условия, и на следующем шаге вырастал кто-то новый, но для начала возникает вопрос, что никакую научную школу, никакой по-настоящему чудотворный, тонкий коллектив деньгами не создашь. Значит, смысл заключается в том, что одними только деньгами ничего не сделаешь. Заплатите сколько угодно человеку, а он ничего не может, он не Моцарт. Более того, зачастую люди, которые в этой творческой среде, если речь идет о творчестве, наиболее к сильным результатам готовы, то они не сильно чувствительны к этим мотивам. Конечно, нравится, чтобы условия были хорошие. Каждый из наших руководителей или топ-менеджеров знает, что когда у него свищ, прошу прощения, на месте, которым он сидит на сидении, или когда у него болезнь такого типа существует, то оттого что он едет в длинной машине и его сопровождает кортеж, качество его злоключений никак не уменьшается. Примерно через 15 минут после того, как ты начинаешь заниматься творческой задачей, среда перестает существовать для тебя. Конечно, если тебе надо выбегать на улицу в туалет – это хуже, чем если он есть, но ты не успеваешь замечать комфорт. Замечают это жены богатых людей, которые ходят и смотрят на то, как они сидят на вип-унитазе. Они замечают, а научный работник не замечает, он может быть корыстен или не корыстен, но когда он взял бумагу и начал писать уравнение – все кончилось. Вопрос заключается в том, чтобы у него были средства, с помощью которых он мог что-то делать. А эти средства иногда очень дорого стоят, они должны быть комплексные, они вырастают в пределах некой среды. При каком-то университете может возникнуть эта Силиконовая долина, а в других случаях она не возникает.
Итак, первый вопрос – это вопрос о том, как взращиваются коллективы, способные к этой эволюционной деятельности? А они взращиваются на нематериальной основе, это взращивается на чувстве какой-то взаимной близости, какой-то мечты, какого-то внутреннего страстного интереса к чему-то. Они не взращиваются на том, что всем заплатили по 100 000 долларов, и поэтому они создали особый коллектив. Второе – эти эксклюзивные, штучные личности. Эйнштейн же мечтал не о том, чтобы жить во дворце за 77 млн евро где-нибудь в Швейцарии, как некоторые наши деятели из СНГ. Эйнштейн мечтал быть смотрителем маяка, он хотел оказаться на маяке, отсеченном от жизни, и иметь столик, решать задачи по общей теории относительности – все! Поэтому мечты этих людей, тончайшие стимулы, с помощью которых они начинают что-то делать, не доступны нашей элите, они в этом не живут, они это не понимают. Знаменитый по этому поводу анекдот советской эпохи: наконец решили создать элитный публичный дом в Москве и получить крупный результат, чтобы все иностранцы были, чтобы разработка велась как следует разведочная, компромат собирать, чтобы секреты они выбалтывали. Все сделали люкс – и никто не ходит. Позвали комиссию, она проверяет и говорит, что все в порядке, интерьеры – люкс, лучше, чем в Париже, все скопировано. Что же тогда, может, еда? Еда просто из “Максима”. А может, все-таки девочки? Да что вы – это все надежные, проверенные большевички с 17-го года! Вот Чубайс на нанотехнологиях мне напоминает эту большевичку 17-го года. Все с ним в порядке, но только ничего не будет, это надо любить, это надо понимать, это надо знать, этим надо жить. Весь вопрос заключается в том, кто это будет делать? Насчет Силиконовой долины отдельный разговор. Это долина в Теннесси, которую я изучал, которая являлась основой американского промышленного рывка, ее делало несколько людей – Давид Левинталь и братья Морганы, не имеющие ничего общего с JP Morgan. Они любили это безумно, они жили только этим, вот тогда эти инвестиции, эти надежды, эта власть, потому что там была создана специальная полиция этого региона “Диск”, постоянно существующая вместе с президентом Рузвельтом, который об этом мечтает и который сам человек соответствующего полета, – оно вдруг дает фантастические результаты. Образовалась в течение 20–30 лет новая страна, абсолютно новая страна, страна новая Америка пошла оттуда, потому что сначала они создали каскад электростанций, потом они создали другие заводы. Тогда это было все равно, что сейчас нанотехнологии. Потом самолетостроение, потом большую часть атомной промышленности, все говорят про этот испытательный полигон на Каласаламос, а на самом деле это – Окридж, все заводы, весь Саров был там, потом Вернер фон Браун, потом уже программа-мозг, там все зашевелилось в этой долине в Теннесси, потому что это делали соответствующие руки с соответствующей любовью, соответствующим талантом. Они жили этим, им было плевать на все, кроме этого. Если этого нет, то опять есть известный старый анекдот. Абрам спрашивает Сару: ”Они хотят, чтобы мы отдали деньги на строительство социализма”. Она отвечает: “Передай им, что если у них нет денег, пусть не строят свой социализм”. Если у них нет таких людей, пусть не занимаются инноватикой.
Есть еще масса сопряженных с этим вещей: сколько лет это будет строиться? Когда это возникнет? Что вообще будет с Россией через 10–12 лет? Короче, нельзя это ругать! И по этому поводу ковыряться в этом тоже нельзя! Пусть делают, какая-то польза будет! Но надо понимать, что у нас есть проблема: мы в этом обществе с этой политической инструментальной базой далеко не все задачи можем решить. Нельзя одними и теми же инструментами решить задачу военной конкуренции с Грузией, с Китаем и с США. Это разные задачи, они требуют разных инструментов. Если их нет, их надо создавать, потому что без победы на этом направлении России действительно хана. И честь и хвала людям, что они хоть что-то делают, а между прочим, еще честь и хвала их нравственности, что они не новые инструменты хотят создавать, не все это заново еще раз очень сильно перелопачивать, а хотят использовать имеющиеся. Это свойство вменяемых людей, вменяемый человек не хочет все курочить заново. Но есть реальность, и если нужно, чтобы в этой реальности что-то изменилось, то ничего без этого нового, адресованного правильно и точно выполнения задачи сделать нельзя.
источник - http://www.russia.ru/video/diskurs_10031/
- Нет комментариев

katehon
Освободители - Разведчики
Начинался 1943 год. Ленинградцы переживали вторую блокадную зиму. С целью восстановления сухопутного сообщения Ленинграда с «большой землей» советское командование готовило операцию «Искра». Составление плана операции и сам прорыв были бы невозможны без активной работы дивизионной и полковой, воздушной и артиллерийской разведки. Именно разведчики стали одними из главных героев прорыва блокады. Стать разведчиком мог не каждый. Обучение добровольцев длилось от недели до месяца, и только после этого они отправлялись на задание. Для наблюдения за обороной противника на переднем крае стрелковые подразделения оборудовали сеть наблюдательных пунктов, откуда разведчики посменно следили за местностью, фиксируя каждую «мелочь». Перед самым наступлением применялась разведка боем. На передовую в разведвзвод или разведроту приходил приказ взять «языка», чтобы получить сведения о немецкой обороне в коридоре на участке в 12 км, названном «бутылочным горлом». На задание в обычной форме, без знаков различия, документов и наград уходили три группы разведчиков — обеспечения, захвата и прикрытия. С собой брали только необходимое оружие — нож, ППШ или МР‑40. Особый рассказ — о пистолете‑пулемете конструктора Алексея Судаева. В ночь на 12 января, используя данные разведки, сводная группа ночных бомбардировщиков Волховского фронта нанесла удары по артиллерийским позициям и пунктам управления противника в полосе прорыва. Между Ленинградом и «большой землей» образовался узкий коридор, по которому в город стало возможно доставлять продукты и топливо. Отдельная глава серии посвящена награде — высшей медали страны «За отвагу».
- Нет комментариев

katehon
Освободители - Кавалеристы
В июне 1944 года Красная армия готовилась к битве за Белоруссию. Войска ночами продвигались к рубежам будущего наступления. Вместе с танками вперед шли и кавалерийские корпуса. Несмотря на то что в армии наступал «век моторов», в составе Красной армии еще сохранялись кавалерийские корпуса. Их использовали совместно с танковыми частями, моторизованной пехотой и авиацией. Для кавалеристских частей практически отсутствовало понятие «непроходимая местность», они прорывались в тыл врага и действовали на его коммуникациях. Так 3-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Николая Осликовского, входивший в конно‑механизированн ую группу 3-го Белорусского фронта, за пять дней прорыва продвинулся вперед на 150–200 км. Действия этой группы не давали отступающим немецким войскам восстановить фронт. Советские кавалеристы доказали, что они по‑прежнему незаменимы и могут эффективно действовать в условиях современной войны. Если танковые армии были мечом Красной армии, то кавалерия — острой и длинной шашкой. Кавалеристы Красной армии, казаки генерала Доватора поделятся воспоминаниями о боевых буднях своей военной службы. Расскажут о тонкостях обучения кавалеристов: как держаться в седле с оружием в руках, как правильно обращаться с лошадьми, как рубить шашкой. Шашка была основным холодным оружием у кавалеристов, а вот главным огнестрельным оружием по‑прежнему оставался пулемет «Максим». В 1943 году кавалерия сыграла важную роль в битве за Кавказ, в Курской битве и в освобождении Левобережной Украины. Они были незаменимы во время боевых действий в Карпатах. Также в этой серии рассказывается об ордене Александра Невского.
- 7 комментариев

katehon
"Великая война" - Фильм 4-й "Сталинград" 2010
У меня там дед воевал.
28 июня 1942 года немцы приступили к реализации плана «Блау». Фашистские войска рвались к Кавказской нефти, единственному источнику нефти в тогдашнем СССР. Чтобы обеспечить это наступление армии Паулюса требовалось захватить Сталинград. Южный сектор советской обороны был прорван. Но 6-я полевая армия Паулюса, вышедшая к Сталинграду, неожиданно получила сильный отпор и остановилась. Сталинград держался, а советское командование уже готовило план разгрома всей вражеской группировки...
- Нет комментариев

katehon
Свобода как фундамент и цель четвертой политической теории

13.04.2010
Семен Жаринов
"Свободным называешь ты себя? Твою господствующую мысль хочу я слышать, а не о том, что ты сбросил ярмо с себя. Из тех ли ты, что имеют право сбросить ярмо с себя? Таких не мало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от своего рабства. Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего?"
Ф.Ницше. Так говорил Заратустра
Согласно Г.В.Ф. Гегелю, свобода, которая есть «субстанция духа», может реализоваться только в государстве, лишь в последнем человек становится подлинно свободной личностью. Так, немецкий философ связал понятие свободы с Политическим в форме государства. Это радикальным образом противоречит либеральной и марксистской теориям, которые утверждают необходимость освобождения от любых политического форм. Главным врагом для свободы человека и общества, по их мнению, является государство, этот жестокий Левиафан.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...В современной политологии и в обыденном представлении той политической теорией, что во главу угла ставит понятие свободы, является либерализм, который, с нашей точки зрения, узурпировал и исказил высокую идею. Современный теоретик либерализма Людвиг Фон Мизес пишет: «Люди привыкли всегда говорить о свободе с величайшей почтительностью. Такое отношение к свободе есть достижение либерализма…»[1]. Скорее благодаря либерализму свобода превратилась в стихийную хаотическую силу, которая сметает все и вся, традиции, мораль, религию. Покровителем же, «царем» такой свободы стал вестник хаоса лермонтовский «демон». Поэтому, свобода нуждается в обновлении, реабилитации и очищении от либеральных коннотаций и либертарианских извращений. Необходимо осуществить революцию (если использовать данный термин в этимологическом значении) идеи свободы, поставить ее на достойный пьедестал, сделать ее той осью, на которую должны быть нанизаны идеологемы Четвертой политической теории.
Итак, исходным пунктом демифологизации и деконструкции либеральной свободы является различие «свободы от» и«свободы для». Конечно, как в традиционном понимании свободы, так и в либеральном, так или иначе наличествуют оба эти аспекта. Различие заключается прежде всего в акцентах. Либерализм делает акцент именно на первом понимании свободы, т.е. на «свободе от». Федотов Г.П. в своей статье «Рождение свободы» так раскрывает эту ее: «Это свобода личности от общества – точнее, от государства и подобных ему принудительных общественных союзов. Наша свобода отрицательная – свобода от чего-то…»[2] Если перечислить все те «принудительные» феномены, от которых либералы предлагают освободиться, то получится внушительный ряд: государство с его контролем над экономикой и гражданским обществом, церковь с ее догматами, формы общинного ведения хозяйства, попытки перераспределять результаты труда («социальная справедливость»), этническая принадлежность, любая коллективная идентичность, гендерная принадлежность (в предельных случаях)[3].
Выдающийся либеральный мыслитель И. Берлин подчеркивает связь этой «негативной» свободы с либерализмом. Он резюмирует размышления классиков в отношении либеральной свободы: «Свобода в этом смысле означает только то, что мне не мешают другие. Чем шире область невмешательства, тем больше моя свобода»[4]. Утверждение этой «области невмешательства» подразумевает противопоставление частной и публичной жизни. Частная жизнь, согласно Дж.С. Миллю, есть сфера тех действий индивида, которые прямо касаются только его самого. Абсолютная независимость в этой сфере и есть индивидуальная свобода. Исходя из сказанного, хотелось бы обратить на два момента. Во-первых, если говорить о некоторой неопределенной «области невмешательства», которая может как расширятся, так и сужаться, то речь должна идти не о свободе, а об определенном уровне несвободы. Во-вторых, если подходить строго философски, существует ли на самом деле та сфера жизни индивида, которая касается только его? Марксизм, к примеру, считает подобную свободу иллюзией, т.к. мысли и поступки человека (который есть «ансамбль общественных отношений») детерминированы средой, в которой основную роль играют экономические отношения и классовая борьба. Для обоснования мифа об «области невмешательства» либерализму необходимо было создать миф о самодостаточном индивиде, индивиде как субстанции. Этот миф восходит к Декарту с его мыслящим субъектом.
Философ Руткевич А.М. отмечает, что для консерватора «частное не существует без общенародного»[5], для него человек «не является самим по себе существующим и только перед собой ответственным существом».[6] Но это не означает, что человек превращается лишь в социальный «кирпичик», теряя свою имманентную ценность. Все дело в особой консервативной антропологии, отличной от либеральной. Если консерваторы говорят о человеке, то он понимается не как индивидуум, а как личность. Индивидуум либерализма – это «нечто совершенно самостоятельное, основополагающее, не связанное ни с историческими, ни с социальными, ни с религиозными ценностями, мотивации, действия и реакции которого коренятся в удовлетворении личных эгоистических потребностей»[7]. Любопытно отметить, что в греческом полисе отдельный человек, лишённый связей с «демосом» и «полисом», оторванный от социальных, этнических и религиозных традиций назывался«идиотес». Таким образом, индивидуум есть атом, единица, т.е. совершенно количественное понятие. Будучи таковым, оно является чистой абстракцией, наподобие математических. Ю. Эвола считает, что «атомарный, несвязанный (solutus), «свободный» «индивид» принадлежит к царству неорганического и, соответственно, стоит на низших уровнях реальности»[8].
Личность же – «категория качественная и качество это определяется богатством и глубиной её духовного содержания»[9]. Личность есть социальный феномен, это человек со всем многообразием социальных связей, ролей и идентичностей (религиозной, этнической, политической, профессиональной, гендерной).
Оторванность понятия индивида от реальности подчеркивали различные мыслители. Для К. Маркса человек есть«социальное животное», т.е. если вычесть из человека социальность, то человек потеряет право называться человеком, становясь животным. Социальность здесь выступает как сущностный признак человека. Социолог Э.Дюркгейм утверждал примат социального, что вылилось в его концепцию «коллективного сознания», которое не сводимо к индивидуальным сознаниям. Евразиец Л. Карсавин со своей стороны предложил антииндивидуалистическое философское учение о«симфонической личности», которое явилось особым осмыслением православного учения о соборности[10]. Глубинная психология К.Г. Юнга так же нанесла урон мифу об автономном индивиде, но уже с другой, психологической стороны. Индивидуум становится здесь «не более чем функцией от бессознательного»[11]. Благодаря понятию коллективного бессознательного индивидуум был извлечен из своего психологического укрытия, и помещен во внеиндивидуальный контекст архетипов, как заметил А.Г. Дугин в своем курсе лекций по структурной социологии. Таким образом, человеку нельзя скрыться от «коллективности» ни на сознательном, ни на бессознательном уровнях. И действительно, можем ли мы помыслить индивида самого по себе? Сразу представляется мужчина или женщина, белый или черный, с той или иной прической, в том или ином костюме. Очевидна невозможность вырывания человека из социального, этнического, или гендерного контекстов. И кого же, таким образом, предлагает освободить либерализм? Голую абстракцию, пустое слово «индивид»…
Мысли упомянутых авторов поразительным образом сближаются с традиционной антропологией. Человек в традиционном обществе всегда мыслился как органическая часть некоей онтологической реальности более высокого порядка. Как замечает индолог Ерченков О., «человек существовал не сам по себе, как часть целого: общества, клана, религиозной общины, мира, Абсолюта, Бога и т.д.»[12] Общество рассматривается как некая космическая личность. Вспоминаются Адам Кадмон каббалы и Пуруша «Ригведы» как символы иерархизированного бытия общества и Универсума в целом. В православном же понимании тело человека есть член Тела Христова («Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы» (1-е Коринфянам 6:15)), а, с другой стороны, человек ценен лишь в силу того, что является творением Бога и что носит в себе образ своего Творца.
Либерализм, как показано выше, для обоснования своего специфического понимания свободы (притом весьма недавнего происхождения[13]), разработал концепцию индивидуализма. Вместе с тем, он подменил понятие свободы понятиемнезависимости. На это обратил внимание Ален де Бенуа: «Для древних свобода существовала прежде всего в возможности участвовать в общественной жизни. В противоположность этому для людей современности (les Modernes) свобода заключается, главным образом, в возможности от этой жизни уклоняться»[14].
Так почему же либералы боятся признать индивида органичной частью чего-то большего? Потому что либералы отрицаюторганицистский подход в социологии. Максимум о чем они могут говорить, так это о системе (от греч. ГНГД·ј±, «составленный»). Согласно системному анализу, система - совокупность сущностей и связей между ними, выделенных из среды на определённое время и с определённой целью. Данный подход адекватен либеральной концепции «общественного договора», с точки зрения которой, в конечном итоге, можно рассматривать любую человеческую общность как случайный, временный и произвольный результат договоренности индивидов во имя их частных прагматичных интересов. Органицизм же считает, что общество (а также народ, государство) представляет собой единый организм (ср. евразийскую«симфоническую личность»). Целостность членов организма нерасторжима, а каждый член не может существовать сам по себе, так же, как не может жить отдельно от всего тела рука или нога. Члены действуют согласованно и руководимы в своих трансформациях неким единым принципом[15]. Вот именно этого принципа и боятся либералы.
Леонтьев К. отмечает эту «беспринципность» либерализма: «Свобода! Освобождение!.. Но от чего и во имя чего? Во имя каких это новых созидающих, то есть стеснительных, принципов?»[16] Ничего он не хочет создавать, а тем более стеснять. Любые объективные принципы, ценности, «позитивные» идеалы, как пишет И. Берлин, приводят к авторитаризму, к уничтожению свободы[17]. Либеральная мифическая концепция предустановленной гармонии (восходящая к Лейбницу),которая приведет индивиды-монады (лишь бы никто не вмешивался) к упорядоченному состоянию, «решает» эту проблему отсутствия принципов. Но не есть ли этот порядок не что иное, как хаос, «война всех против всех»? И как в таком хаосе возможна свобода? Ф. Хайек считает порядком продукт неуправляемого взаимодействия свободных индивидов. По его мнению, беспорядочная игра общественных сил не вредит свободе, а сама является свободой. Для хоть какого-то обоснования данного мифа, Хайек прибегает к результату либерального гипостазирования, к «невидимой руке» рынка. Никакое внешнее рациональное влияние на общество неприемлемо, регулирование социальной жизни можно предоставить лишь рынку, т.к. его механизмы безличны и иррациональны, и именно поэтому не ограничивают свободу. То же самое пишет и Дж. Роулз. Он полагает, что принципы, которыми руководствуется общество, не должны вытекать из какой-либо нормативной теории, т.к. человек, а следовательно и общество, есть хаос, к которому не применимо никакое рационализирование. При этом хаос отождествляется с максимально возможной свободой.
Тем не менее, можно легко доказать, что в обществе-хаосе свобода немыслима. Считается, что «свобода от» якобы расширяет поле выбора человека. Но выбор – это всегда выбор какой-то стратегии, пути, устремленного в будущее. Чтобы выбор состоялся нужно знать внешнюю среду. Общество же как совокупность свободных индивидов делает выбор по отношению к будущему совершенно неопределенным. Следовательно, «свобода от» человека есть его полная несвобода через несвободу общества[18]. Да и вообще, если свободу сводить к свободе выбора, то стремиться к ней, а значит и делать ее фундаментом идеологии, нет смысла, так она есть всегда. Даже ограниченный обстоятельствами «человек не только может, но и реально всегда выбирает самого себя, свой поступок, — то, кем он будет в сложившейся вокруг него ситуации. Эта свобода самоопределения неустранима из человеческого бытия, человек, по выражению Сартра, "обречен на такую свободу"[19].
Конечно, либералы могут возразить: «А как же верховенство права?» Но как может некий светский закон стать безусловным авторитетом для «свободного» индивида? «Гражданский закон сам за собой не признает незыблемого характера религиозного догмата… Он меняется…»[20] - замечает К. Леонтьев.
Таким образом, невооруженным глазом видна вся противоречивость, безжизненность и разрушительность либеральной концепции свободы.
Если понимать свободу как свободу реализации личности, то в этом случае можно сослаться на учение о «симфонической личности». Реализация человеческой личности возможна только благодаря осуществлению ее как части чего-то большего, т.е. только посредством интеграции в иерархию личностей, которые все вместе составляют единый организм, симфоническую личность. Высшая степень упомянутого процесса поясняется понятием жертвы. Личности жертвуют собой ради блага целого и тем самым максимально актуализируют свою сущность[21].
Этимология слова «свобода» говорит о том, свобода изначально понималась как «свобода для», и что она связана с идеей принадлежности к некоему своему окружению, роду, племени. Это была свобода для своих[22]. «Свобода для» всегда связана с каким-то конкретным целепологанием, т.е. личность в этом случае выбирает некоторую цель, которой служит,подчиняется. Согласно христианскому учению именно такое подчинение (обусловленное «свободой для») приводит к свободе самой по себе: «если пребудете в слове Моем…, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 31, 32). Это значит, как сказано в «Социальной концепции Русской Православной Церкви», «что подлинно свободен тот, кто идет путем праведной жизни и ищет общения с Богом, источником абсолютной истины». В индуизме достижению полного освобождения предшествует подчинение некоему безличному онтологическому закону, который обозначается термином «дхарма» - это те неснимаемые обязанности и ответственность, которые накладывает само Бытие. Дхарма дифференцируется в зависимости от варны и касты. Кроме того, дхарма – это неотъемлемое свойство вещи. Аналог дхармы в даосизме – Дао («путь») – естественный порядок вещей[23].
Исходя из этого, можно выделить два необходимых для нашей цели уровня свободы: 1. свобода как путь, средство и как отправная точка («свобода для»); 2. свобода как цель, как некое онтологическое состояние.
Аналоги этих двух типов свободы имеются в индийской традиции. Свободе как цели соответствует мукти(«освобождение»), что обозначает абсолютную реализацию человека, слияние с Брахманом. Аналог свободы как пути - сватантрия (букв. «следование по своей нити или судьбе»)[24]. Путь есть свободно принятая ответственность и труд, если угодно, борьба, жертвенная борьба, которая приводит к «рождению свыше», что есть онтологическая свобода, свобода как цель.
На знамя Четвертой политической теории должна быть поднята именно свобода в традиционном понимания, подлинная, укорененная в бытии, «свобода для»! Для чего? Для Целого! Во имя великих идей, великих принципов и великих ценностей! Но сознательно принятая такая свобода не есть покой или нечто удобоносимое. Она нелегка, это особое духовное «бремя». Принятие этого «бремени», ответственности делает нас свободными. Ведь то, за что мы не отвечаем, бытует само по себе, формируя обстоятельства, детерминирующие наше существование без нашего участия. Примером свободной (в нашем понимании) личности может быть наш первый царь Иван Васильевич. Он был поистине «тягловой личностью», олицетворением и средоточием «тяглового государства», он водрузил на себя ношу отвечать перед Господом за все Царство и за каждого подданного. Это и есть подлинная свобода как путь, которая в эсхотологической перспективе ведет к онтологической свободе как цели.
Примечания:
[1] Мизес Л. фон. Либерализм. Челябинск: Социум, 2007.- 344 с.
[2] Г.П.Федотов. Рождение свободы (Впервые напечатано в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1944, № 8, с.198-218).
[3] Дугин А. Четвертая политическая теория. Россия и политические идеи XXI века. – СПб.: Амфора, 2009. 32 с.
[4] И. Берлин. Две концепции свободы // Современный либерализм. М., 1998. С. 19-43.
[5] Цит. по: Попов Э.А. Русский консерватизм: идеология и социально-политическая практика. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2005.
[6] Там же.
[7] Вологин Е.А. Общество «Мемориал» как элемент цивилизационной антисистемы / http://www.ugtu.net/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=348
[8] Эвола Ю. Люди и руины. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 36 с.
[9] Там же.
[10] Карсавин Л. О личности. / Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. – М.: «Ренессанс», 1992.
[11] Лекция №1 Структуралистская топика социологии (курс Структурная социология) (25.02.09) проф. Дугин / http://konservatizm.org/speech/dugin/080309205432.xhtml
[12] Ерченков О.Н. Понятие свободы в традиционном обществе и его трансформация в философии Модерна. / http://aryadev-beda.livejournal.com/6204.html.
[13] «Трактовка сферы частной жизни и личных отношений как чего-то священного в самом себе проистекает из концепции свободы, которая, если учесть ее религиозные корни, получила законченное выражение лишь с наступлением эпохи Возрождения или Реформации» (И. Берлин. Ук. соч.).
[14] Ален де Бенуа. Против либерализма. / Русское время. Журнал консервативной мысли. № 1 Август 2009. 70 с.
[15] Грицанов А.А. Органическое общество / Энциклопедия социологии. Сост. Грицанов А.А., Абушенко В.Л., Евелькин Г.М., Соколова Г.Н., Терещенко О.В. – Минск: Серия "Мир энциклопедий", "Книжный Дом", 2000.
[16] Леонтьев К. Передовые статьи «Варшавского дневника» 1880 года / Русское время. Журнал консервативной мысли. № 1 Август 2009. 56 с.
[17] «Плюрализм более человечен, ибо не отнимает у людей (как это делают создатели систем) ради далекого и внутренне противоречивого идеала многое из того, что они считают абсолютно необходимым для своей жизни, будучи существами, способными изменяться самым непредсказуемым образом» (И. Берлин. Ук. соч.).
[18] Субетто А.И. Свобода. Книга первая. Критика либерального разума. (Научная моно-графическая трилогия). – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. 51 с.
[19] Анисин А. Консерватизм, традиция и онтологическая свобода человека / http://www.pravoslavie.ru/jurnal/317.htm
[20] Леонтьев К. Ук. соч. 56 с.
[21] Карсавин Л. О личности. / Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. – М.: «Ренессанс», 1992. С. 139.
[22] Древнерусское и старославянское собьство – «свойство» и «существо», «общность» (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: 2 т. – 3-е изд., стереотип. – М.: Рус. Яз., 1999, с.148). «В самом русском языке слово «свобода» восходит к общеславянским корням: сва (своя) обода (окружение, община, общество)» (Ерченков О. Ук. соч.).
[23] Ерченков О. Ук. соч.
[24] Там же.
источник - http://konservatizm.org/konservatizm/theory/130410163922.xhtml
- Нет комментариев

katehon
Мир Спайкмена
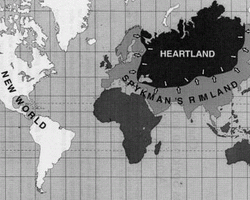 Автор этого текста - Фрэнсис Семпа - cовременный американский геополитик, юрист и специалист по вопросам безопасности. Хотя выводы и заключение Спайкмена несколько и устарели на текущий момент, тем не менее, они свидетельствуют о чрезвычайно широком понимании им стратегических вопросов.
Автор этого текста - Фрэнсис Семпа - cовременный американский геополитик, юрист и специалист по вопросам безопасности. Хотя выводы и заключение Спайкмена несколько и устарели на текущий момент, тем не менее, они свидетельствуют о чрезвычайно широком понимании им стратегических вопросов..
До нападения японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года, американцы и их лидеры обсуждали какую роль, если таковая имелась, Соединенные Штаты должны играть в том, что в последствии было принято называть "отдаленными" европейскими и азиатскими конфликтами. Аналогично, в конце Второй мировой войны, американцы обсуждали - должны ли они и в какой степени принимать участие в формировании послевоенного международного порядка. В первом случае, Соединенные Штаты мобилизовали свою промышленную мощь и людские ресурсы для ведения тотальной войны в Европе, Азии, Северной Африке, а также в мировом океане, чтобы помочь победить фашистскую Германию, Италию и императорскую Японию. В последнем случае, Соединенные Штаты постепенно взяли на себя лидерство в 45-летних глобальных усилиях по сдерживанию и, в конечном итоге, ликвидации советской империи.
Оба этих случая внешней политики США на основе реалистичной геополитической привязки были блестяще проанализированы и объяснены в двух статьях и двух книгах голландско-американского профессора Йельского университета по имени Николас Спайкмен. Эти произведения заработали для Спайкмена видное и прочное место в области геополитической мысли наряду с такими интеллектуальными тяжеловесами как американский военно-морской стратег и историк Альфред Тэйер Мэхэн, и великий британский географ и государственный деятель сэр Хэлфорд Маккиндер.ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...В то время, когда он написал вышеупомянутые статьи и книги, Спайкмен был (стерлинговым) профессором международных отношений в Йельском университете, где в 1935 году был основан Институт (колледж) Международных Исследований. Он преподавал в Йельском университете до своей безвременной кончины в возрасте 49 лет в 1943 году. До своей работы в области международных отношений и геополитики, Спайкмен был более известен за его новаторскую работу по изучению социологических теорий Георга Зиммеля.1
Согласно свидетельствам Фредерика С. Данна, друга и коллеги Спайкмена в Йельском университете, который позднее руководил Институтом Международных Исследований, Спайкмен понял, что политика США в области национальной безопасности в середине-конце 1930-х в ущерб себе "игнорировала географический фактор". "Чем больше он изучал положение этой страны по отношению к остальному миру", объяснял Данн, "тем больше он убеждался, что наша политика безопасности была нереалистичной и неадекватной". Согласно Данну, Спайкмен понял, что "ранние геополитики … обнаружили многие факты, которые наши управляющие органы игнорируют".2 Это понимание привело к тому, что первоначально Спайкмен написал две большие статьи в 1938 г. и 1939 г. в Американских Обзорах по Политологии (The American Political Science Review) о соотношении географии и внешней политики.
Спайкмен написал эти статьи в то время, когда Япония с начала 1930-ых вела войну на азиатском материке, Германия и советская Россия вмешались на противоположных сторонах в испанскую гражданскую войну, и немецкий экспансионизм в Европе и итальянские завоевания в Северной Африке были встречены неэффективной политикой умиротворения Западных демократий. Спайкмен ощущал, что мир катится к другой великой войне, и он стремился в этих статьях объяснить фундаментальные факторы, которые обусловливают политику государств на международной арене.
Президент Франклин Рузвельт ясно ощущал опасность, которую представляли для национальной безопасности США агрессивные тоталитарные силы, но он не хотел идти резко в разрез с американским общественным мнением. ФДР (Франклин Делано Рузвельт) осудил японскую и немецкую агрессию, и позже, как только война в Европе началась, осторожно обошел Закон о государственном нейтралитете, посылая материальную помощь Великобритании и Китаю. Но в избирательной кампании 1940, Рузвельт все еще обещал американскому народу, что он не будет посылать их сыновей для участия в войне за рубежом.
Статьи Спайкмена в Американских Обзорах по Политологии не были пронзительными предупреждениями, как те, которые позже озвучил Уинстон Черчилль о растущих немецких и японских угрозах всеобщей безопасности. Вместо этого Спайкмен проявил подход политолога к ситуации в мире, исследуя геополитические факторы, которые влияли на поведение и затрагивали безопасность всех великих держав.В “Географии и Внешней политике” (1938), Спайкмен обсудил влияние размера, мирового и регионального местоположения на внешнюю политику государств. География, по его мнению, является наиболее важным фактором, обусловливающим политику государств, потому что, “географическая пространство государства - территориальная основа, с которой оно действует во время войны и стратегическое положение, которое оно занимает во время временного перемирия, называемого миром”3. Кроме того, по сравнению с другими факторами, которые влияют на внешнюю политику - плотность населения, экономическая структура, форма правления, личности и предубеждения государственных деятелей – географический фактор имеет более постоянный характер. “Поскольку географические особенности государств являются относительно неизменными и неизменяемыми,” написал он, “географические требования этих государств остаются одинаковыми в течение многих столетий … ”4
Обзор всемирной истории Спайкмена показал, что большинство сильных, мощных государств было большими государствами, хотя он признавал, что некоторые меньшие державы (Венеция, Голландия, Великобритания) посредством господства на море, управляли большими империями. Размер, пояснял он, “ это не сила, а потенциальная сила”. Большой размер может быть как силой, так и слабостью в зависимости от “технического, социального, морального и идеологического развития, от динамики сил внутри государства, от прошлой политической конфигурации, а также от индивидуальных особенностей отдельных личностей”5.
Наиболее существенным элементом большого мощного государства, согласно Спайкмену, является “эффективное централизованное управление”, которое зависит “от наличия эффективной системы коммуникаций от центра к периферии …” Спайкмен отметил в этой связи, как инки, персы, римляне, французы, китайцы и русские построили шоссе, дороги и каналы, чтобы связать воедино свои империи. Позже, он пояснил, что железные дороги и аэропорты “сделали возможной эффективную интеграцию по более широким областям.” Геополитическая тенденция, отмечал он, для государств состояла в способности осуществлять эффективный политический контроль над все большими областями. “Очень может быть”, предсказывал он, “что ближайшие пятьдесят лет с этого времени четверкой мировых держав будут Китай, Индия, Соединенные Штаты, и СССР ”6
Еще более важным, чем размер государства, согласно Спайкмену, является его местоположение, как в мире, так и в конкретном регионе. Действительно, Спайкмен характеризовал географическое местоположение государства как “самый фундаментальный фактор в его внешней политике.”7 Он пояснил далее,
что факты местоположения не изменяются. Значение таких фактов изменяются с каждым изменением в средствах коммуникации, в маршрутах коммуникации, в технике ведения войны, в центрах мировых держав, и полное значение данного местоположения может быть получено только при рассмотрении данного местоположения относительно двух систем отсчета: географической системы отсчета, из которой мы получаем факты местоположения, и исторической системы отсчета, в которой мы оцениваем эти факты. 8
Спайкмен сделал набросок геополитической мировой структуры, состоящей из двух больших массивов суши, Евразии и Северной Америки; трех островов, Южной Америки, Африки и Австралии, а также пяти основных водных массивов: южного полярного моря, Северного Ледовитого океана и Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Он проанализировал исторические сдвиги в мировых центрах власти: от Ближнего Востока к Эгейскому морю, к Средиземному морю, в Западную Европу, в Атлантический океан, к текущей (1938 г.) ситуации, где было четыре "сферы" мировой власти, каждая из которых управлялась из различные центров," Северная и Южная Америка из Соединенных Штатов, Дальний Восток из Японии, центр Евразии из Москвы, Восточная Атлантика и Индийский океан из Европы".9 Спайкмен пришел к выводу, что Соединенные Штаты, с прямым доступом к Атлантическому и Тихоокеанскому бассейнам, были “самым привилегированным государством в мире с точки зрения местоположения.”10
Что касается регионального расположения, Спайкмен разделил большинство государств на три типа: “государства не имеющие выхода к морю,” “островные государства,” и “государства, у которых есть как сухопутные так и морские границы”.11 Государства не имеющих выхода к морю обычно сталкиваются с проблемами безопасности исходящими от своих непосредственных соседей. Островные государства обычно находятся под потенциальным давлением со стороны других военно-морских держав, но если они - оффшорные островные государства (Великобритания и Япония), они могут сталкиваться с проблемами безопасности от соседних прибрежных держав. Оффшорные островные государства часто решают указанную проблему безопасности завоевывая или колонизируя прибрежные области, поддерживая прибрежные буферные государства, и/или поддерживая равновесие сил между континентальными державами. Государства с сухопутными и морскими границами определяли свою принципиальную концепцию безопасности основываясь на нескольких факторах, включая протяженность их морских и сухопутных границ, потенциальную мощь их непосредственных или ближайших соседей.
Спайкмен охарактеризовал Францию, Германию и Россию (даже при том, что у них были и морские и сухопутные границы) как прежде всего континентальные (сухопутные) державы. Их соответствующие проблемы безопасности исторически исходили от их сухопутных соседей. Великобритания, Япония, и Соединенные Штаты, с другой стороны, была островными государствами, ориентирующиеся на морскую мощь. Соединенные Штаты были квалифицированы как "остров", потому что у них не было никаких проблем безопасности на сухопутных границах с Канадой и Мексикой. Китай и Италия, с морскими и сухопутными границами, имели смешанную сухопутно-морскую ориентацию из-за их мирового и регионального местоположения.
Спайкмен питал слабую надежду на то, что великие державы построят эффективную систему коллективной безопасности. Существовавшая тогда система - Лига Наций –была неэффективной, поскольку она была “не в гармонии с основными географическими и политическими реалиями”12. Великобритания и Франция, например, рассматривали события в центральной Европе и Эфиопии совершенно по-разному с точки зрения перспектив безопасности. Для Франции центральная Европа была областью потенциально важных союзников против Германии, тогда как для Лондона регион был “отдаленной землей” “незначительного интереса.” Точно так же, для Великобритании итальянский контроль Эфиопии был потенциальной угрозой британским интересам в Красном море и в Судане, в то время как для Франции это означало “только довольно неприятного соседа вблизи относительно малозначащей колонии.”13
Государства, заключил Спайкмен, не могут игнорировать свою географию "каким бы квалифицированным ни было Министерство иностранных дел, и каким бы изобретательным ни был Генеральный штаб". Внешняя политика государства должна учитывать географические факторы. "Она может делать это умело или неумело, она может изменять их, но она не может их игнорировать. О географии не спорят. Она просто есть."14
Год спустя, на сей раз с Эбби Роллинзом, Спайкмен вернулся к вопросу о мировой политике в длинной статье в двух частях, озаглавленной "Географические цели во внешней политике." В этой работе изучены, исторически и географически, модели расширения государств. Спайкмен считает, что экспансионистское поведение государств должно рассматриваться за длительные периоды времени, поскольку такой масштаб времени позволяет избежать тенденции расценить войну или мир как нормальное состояние и показывает государства в их отношениях друг с другом, в их истинном свете, как борются организации власти".
"При прочих равных условиях", писал Спайкмен, "все государства имеют тенденцию к расширению".16 Это касается как морских так и сухопутных держав, и это привело к тому, что он назвал "сдвигами в балансе сил". "Сфера международной политики, " пишет он, похоже на поле сил сравнимых с магнитным полем. В любой данный момент имеются некоторые крупные державы, которые действуют в этой области поля сил в качестве полюса. Изменение в относительной силе полюсов или появление новых полюсов изменит поле и сдвинет силовые линии. ”17
Большая часть статьи описывает условия и исторические примеры того, как государства стремятся к расширению в конкретных стратегических географических условиях. Государства часто расширялись вдоль соседних долин реки, которая служила в качестве путей сообщения (Египет на Ниле, Месопотамия на Тигре и Евфрате, Китай на Хуан-хэ, США на Миссисипи и Миссури). Государства, не имеющие выхода к морю стремились получить доступ к морям и океанам (Вавилон и Ассирия искали доступ к Средиземноморью, балканские державы искали доступ к Адриатике, Россия искала доступ к свободным ото льда портам). Островные государства нередко расширялись, завоевывая соседние прибрежные районы (Великобритания и западное побережье Европы, Японии и восточное побережье Китая), и часто стремились контролировать морские пути из экономических и стратегических соображений (Великобритания, Япония, Голландия, Соединенные Штаты). Некоторые государства участвовали в том, что Спайкмен называет “периферическим и заморским расширением”, чтобы получить контроль над крайними или внутренними морями (греческий контроль Эгейского моря, римский контроль Средиземноморья, американский контроль Карибского моря). Наконец, государства расширялись, чтобы исправить, обезопасить или контролировать свои границы, часто с целью дальнейшей экспансии (Россия, Римская империя, Монгольская империя, Германия, Соединенные Штаты).
Мнения Спайкмена и Роллинза служили слабым утешением для тех, кто надеялся, что Лига Наций или какая-либо другая международная организация смогут обуздать экспансионистские тенденции гитлеровской Германии, Италии Муссолини или императорской Японии. “История свидетельствует о постоянном возрождении этих форм экспансии и повторяющихся результатах такого рода конфликтов”, писали они, “и нет никаких оснований предполагать или ожидать, что эти модели поведения государств внезапно изменятся или исчезнут в ближайшем будущем.”19
1 сентября 1939, спустя несколько месяцев после того, как вторая статья Спайкмена появилась в Американских Обзорах по Политологии, Германия, заключив тайное соглашение с советской Россией о разделе Восточной Европы, вторглась в Польшу, начав европейский этап Второй мировой войны. Два дня спустя, Великобритания и Франция соблюдая свои гарантии Польше, объявили войну Германии. Несколько недель спустя, Советский Союз вторгся в Польшу с востока, окончательно решив ее судьбу. 10 мая 1940, после промежутка времени, известного как “странная война,” Гитлер начал вторжение в Бельгию, Францию и страны Бенилюкса. Франция, имевшая наибольшую армию в Европе, капитулировала перед Германией в конце июня 1940. В течение следующего года Великобритания противостояла массированным бомбардировкам и тяжелым потерям на море, и фактически одна среди великих держав противостояла Германии и Италии. Ход войны был тогда преобразован тремя знаменательными событиями: вторжением Германии в советскую Россию в июне 1941, нападением Японии на американские силы в Перл-Харборе в декабре 1941, и последующим объявлением войны Гитлером против Соединенных Штатов.
С миром в состоянии войны, и Соединенными Штатами полностью воюющими в этой войне, Спайкмен в 1942 написал Стратегию Америки в Мировой Политике: Соединенные Штаты и баланс сил,20 мастерский анализ мировой политики и принципиальной стратегии США основанной на геополитическом реализме. Книга, объяснял он, предлагает “анализ положения нашей страны с точки зрения географии и государственной политики,” так, чтобы Соединенные Штаты могли “разработать принципиальную стратегию как для войны так и для мирного времени, основанную на следствии ее географического местоположения в мире. ”21
Спайкмен начал эту работу с описания анархического характера мировой политики. В отсутствие всемирного органа власти все государства борются прежде всего за самосохранение. “Основной целью внешней политики всех государств,” писал он, “является сохранение территориальной целостности и политической независимости.”22 Этот мир международной анархии приводит к бесконечной борьбе за власть среди государств.“Борьба за власть,” объяснял он, “идентична борьбе за выживание, и улучшение относительного положения державы становится главной целью внутренней и внешней политики государств. Все остальное вторично, поскольку в последней инстанции, только власть может достичь цели внешней политики.”23
Власть государства, считал Спайкмен, состояла из многих факторов, включая: размер и характер его территории и границ; его население; количество сырья, которым оно обладало и производило; его экономическое и технологическое развитие; стабильность его политической системы; его национальный дух; его военная мощь; сила и власть ее потенциальных врагов. Государственные деятели, писал он, должны сосредоточить свое внимание и энергию на достижении “цели власти.” Государства могут выжить, предостерегал он, “ только постоянной преданностью политике власти.” Это означало, согласно Спайкмену, что мораль играла только вспомогательную роль, если таковая вообще имеется, в национальной внешней политике. Он объяснял, что государственный деятель, который проводит внешнюю политику, может интересоваться ценностями правосудия, справедливости, и терпимости только до той степени, в какой они способствуют или не вмешиваются в цели власти. Они могут использоваться как инструмент морального оправдания запросов власти, но от них нужно отказаться в момент, когда их применение приносит слабости. Стремление к власти осуществляется не для достижения моральных ценностей; моральные ценности используются, чтобы облегчить достижение власти. 24
Государственные деятели, вместо этого, должны заботиться о глобальном балансе сил (власти). “Опыт показал,” писал он, “что в сбалансированной власти больше безопасности, чем в декларации добрых намерений.”25 Но, возвращаясь к своей предыдущей статье о расширении государств, Спайкмен отметил, что было немного случаев в истории, когда государства пытались ограничивать или сдерживать свою собственную власть. Вместо этого, объяснял он, “государства заинтересованы только в балансе, который в их пользу. Не равновесие, а наибольшая выгода является их целью. ”26 Баланс сил, по мнению Спайкмена, был не статичным явлением, а непрекращающимися, постоянно меняющимися отношениями между великими державами. “То, что является границей безопасности для одной страны,” писал он, “является границей опасности для другой, и один союз, поэтому, должен противостоять другому контрсоюзу, одно вооружение – другому контрвооружению в вечной конкурентной борьбе за власть. Так было во все периоды истории. ”27
Эта вечная конкурентная борьба за власть иногда прибегает к войне. “Есть тенденция рассматривать мир как нормальное состояние, а войну как ненормальное,” объяснял Спайкмен, “но это из-за интеллектуального замешательства, вызванного эмоциональной реакцией на войну. Война неприятна, но она является неотъемлемой частью государственных систем, состоящих из суверенных независимых подразделений (стран). Забывать об этой реальности, потому что войны неприятны, означает идти навстречу катастрофе.”28 Война в двадцатом веке, отмечал Спайкмен, велась в военном отношении, политически, экономически и идеологически. Другими словами, война двадцатого века была “тотальной войной.”
Основная часть “Стратегии Америки в Мировой Политике” состояла из детального и систематического анализа Спайкмена геополитического положения Соединенных Штатов в Западном Полушарии, в трансатлантической зоне, в транстихоокеанской зоне и в мире в целом.
Соединенные Штаты, отмечал Спайкмен, были доминирующей силой в Северной Америке и во всем Западном полушарии. Он рассказал об историческом процессе, согласно которому США выросли из тонкой полоски территории вдоль восточного побережья центральной части Северной Америки до континентального гиганта, контролирующего все земли в центре Северной Америки от Атлантического до Тихого океана. Американская экспансия была результатом войны, дипломатии, разведки, насильственного выселения коренных народов, относительно слабых соседей, благоприятного географического положения, и практичного использования соперничества европейских держав. Соединенные Штаты достигли своего “божественного предопределения” в Западном полушарии, отмечал Спайкмен “потому что никогда не было объединенной Европы, чтобы противостоять им и потому, что ни одно европейское государство никогда не получало достаточную свободу действий, чтобы бросить всю свою военную мощь в борьбу в [западном] полушарии.”29 Даже при том, что европейские великие державы были обеспокоены возрастающей мощью Соединенных Штатов, “они были по необходимости более обеспокоены балансом сил в Европе и их собственной территориальной безопасностью, чем соотношением сил на американских континентах.”30
В трансатлантической зоне, пишет Спайкмен, Соединенные Штаты геополитически были расположены по отношению к Европе так же, как Великобритания была расположена по отношению к евразийскому континенту. “Мы заинтересованы в Европейском балансе”, пояснил он, “так же, как у британцев есть интерес к континентальному балансу.”31 На протяжении веков, Великобритания выступала против любой силы, угрожавшей опрокинуть, или действительно опрокидывавшей равновесие сил на континенте. У Великобритании, перефразируя их великого министра иностранных дел и премьер-министра 19-го столетия лорда Палмерстона, не было никаких постоянных друзей и никаких постоянных врагов, только постоянные интересы.
Великобритания исторически закрепляла коалиции европейских держав, чтобы победить гегемонистские амбицииГабсбургов, Людовика XIV и Наполеона Бонапарта. В Первой мировой войне, однако, Европе потребовалась помощь неевропейской державы, Соединенных Штатов, чтобы предотвратить попытку Кайзера Вильгельма захватить континентальную гегемонию. В 1930-х и на ранних стадиях Второй мировой войны, отметил Спайкмен, Германия “разрушила властные устои политической структуры Европы.”32 Европа больше не являлась самодостаточной геополитической системой, способной сбалансировать саму себя.
Мало кто из американцев изначально понимал последствия для безопасности их страны того, что Хайо Холборн позже назвал, “политическим крахом Европы.”33 Спайкмен подробно излагает раннюю коллективную реакцию Америки на вызов Германии Версальскому соглашению, которое закончило Великую войну: изоляция, нейтралитет, и суждение, что Европа не наша забота. “Большинство нации,” писал Спайкмен, “казалось, считала, что единственная необходимая вещь - это сделать некоторые коррекции в нашей политике нейтралитета и устранить недостатки, которые вовлекли нас в последний конфликт.”34 Спайкмен отдает должное президенту Рузвельту за то, что он попытался пробудить у соотечественников понимание серьезных последствий для американской безопасности от управляемой немцами Европы, но американцы слишком медленно осознавали опасность.
Спайкмен не только осознал последствия для американской безопасности вызова Германии европейскому равновесию сил, но он был также знаком с немецкими геополитическими работами, изданными Карлом Хаусхофером и его коллегами в Мюнхенском Институте Геополитики. Спайкмен суммировал немецкое геополитическое видение следующим образом:
Европейский континентальный массив от Северного моря до Уральских гор будет организован на континентальной основе как экономическое сердце большого ‘жизненного пространства’ и основа военного потенциала для межконтинентальной борьбы за власть. Ближний Восток, который контролирует выходы к Индийскому океану и имеет нефть, от которой зависит европейская промышленность, будет объединен, экономически и политически, в форме полуавтономных государств, управляемых из Берлина. 35
Африка будет также экономически и политически управляемой Германией, и будет служить в качестве источника стратегического сырья и связующего звена с Южной Америкой через Атлантику.
Спайкмен заключил, что, если бы Германия утвердила свой контроль над континентом и победила Великобританию, это объединило бы экономические ресурсы всей Европы со свободным доступом к океанам, что привело бы к Западному Полушарию и Соединенным Штатам. При ситуации в мире 1942 года у Соединенных Штатов не было иного выбора, кроме как, еще раз “положить свою экономическую мощь, продукцию военных отраслей промышленности и людские ресурсы на весы европейской борьбы за власть.”36Американские экономические интересы и интересы безопасности в регионе, который Спайкмен называл “транстихоокеанской” зоной первоначально исходила из нашей аннексии Гавайев и нашей победы в испано-американской войне в 1898 году, из которых мы приобрели Филиппинские острова и Гуам. Годом позже, государственный секретарь Джон Хэй начал политику "открытых дверей", в которой Соединенные Штаты добивались равного коммерческого доступа в Китай и обязались уважать территориальную целостность Китая. Другими основными азиатскими державами были Россия и Япония, которые вступили в войну друг против друга в 1904-05 гг. Растущая роль Америки в Азии проявилась в том, что договор о прекращении русско-японской войны был заключен при посредничестве президента США Теодора Рузвельта.
Американские владения в Тихом океане и оффшорной Азии, так же как растущие коммерческие интересы в Китае, означали, что баланс сил в Азии также затрагивал американскую безопасность. Тогда как в Европе возрастающей силой была континентальная Германия, в Азии и на Tихом океане возрастающей силой была островная нация Японии. Спайкмен отметил, что во время Первой мировой войны, когда европейские державы и в конечном счете Соединенные Штаты были заняты немецкой угрозой в Европе, Япония усилила свое относительное положение в мире. После Первой мировой войны, Соединенные Штаты и Великобритания, на Вашингтонской Военно-морской Конференции, согласились провести демилитаризацию своих владений в западной части Тихого океана и соблюдать соотношение в военных кораблях десять к шести. Эти соглашения о контроле над вооружениями, в сочетании с большими Тихоокеанскими географическими расстояниями, согласно Спайкмену, “предоставлял Японии военно-морское превосходство в крайних морях между Азиатским материком и Tихим океаном и в западной части этого океана.”37
Япония сделала свое первое откровенное движение к достижению гегемонии в Восточной Азии и Tихом океане, вторгнувшись в Маньчжурию в 1931 г. и создав марионеточное государство Маньчжоу-Го. В 1937 г. Япония военной силой оккупировала северные области Китая. В 1940 г., после того, как Франция сдалась немцам, Япония ввела войска в Индокитай, и впоследствии заняла военно-морские и авиабазы во французской колонии. Затем Япония оказывала давление на голландскую Ост-Индию. Спайкмен объяснил, что все это означало для интересов безопасности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
Если бы японцы смогли реализовать их мечту об империи, позиции Соединенных Штатов в мире был бы нанесен серьезный ущерб. Это привело бы к потере Филиппин, Гуама, и, вероятно, Островов Самоа. Это положило бы конец политике ‘открытых дверей’ в Китае и сделало бы нас зависящими от японской доброй воли для получения стратегического сырья [региона]. ‘Японская Большая Сфера взаимного процветания Восточной Азии’ будет означать окончательное разрушение баланса сил в транстихоокеанской зоне и будет иметь критические последствия для нашей силовой позиции в Западном полушарии. 38
Реакция Соединенных Штатов на агрессивные действия Японии, отметил Спайкмен, включало “убеждение, бартер, и угрозу применения силы.” “Наши ноты и протесты были хорошо написаны, убедительно аргументированы, и подкреплены непреложными принципами международного права,” жаловался он, “но на японцев … впечатления не производили.” “Лига [Наций] приняла резолюцию, осуждавшую Японию, и народ Америки провел митинги протеста,” отмечает далее Спайкмен, “но никакие действия не предотвратили высадку войск или бомбежку городов.”39
И только после оккупации Японией Французского Индокитая Соединенные Штаты использовали существенные экономические санкции в виде эмбарго на поставки нефти. Вместо того, чтобы подчиниться этому экономическому принуждению, ограничив свои имперские амбиции, Япония 7 декабря 1941 г напала на американские позиции на Филиппинах и в Тихом океане. Борьба за влияние в транстихоокеанской зоне разразилась в открытую войну.
Детали борьбы за власть в трансатлантических и пересекающих Тихий океан (транстихоокеанской) зонах были важны, но наиболее значащей частью “Стратегии Америки в Мировой Политике” был геополитический анализ Спайкмена положения Америки в мире в целом. Для этого анализа Спайкмен разделил земной шар на несколько геополитических областей, заимствуя понятия у британских географов Джеймса Фэйргрива и Хэлфорда Маккиндера, и у великого американского военно-морского историка и геополитика Альфреда Тэйера Мэхэна.4
Европа, Азия и Ближний Восток образуют великий континент Евразия. “Внутренней зоной” Евразии была “сердцевинная земля”, территория богатая ресурсами и рабочей силой, которая, утверждал Спайкмен, “могла развить экономику, достаточно сильную, чтобы поддерживать одну из наибольших военных машин двадцатого века.”41 Исторически кочевые всадники из внутренних глубин этой северо-центральной Азии неоднократно оказывали давление на Европу, Ближний Восток, юго-западную Азию и Китай. Как только Россия утвердила себя в “сердцевинной земле”, она стремилась “прорваться через кольцо окружения пограничных государств и достигнуть океана,” но “[г]еография и морские державы,” объяснял Спайкмен, “… постоянно мешали ей. ”42 В девятнадцатом веке российскому давлению из “сердцевинной земли” противостояла британская морская мощь в геополитической борьбе, известной как “большая игра.”
Спайкмен описал приморскую область вокруг Евразии как “большое периферическое морское шоссе мира.” Оно включало Балтийское и Северное Моря, крайние моря Западной Европы, Средиземное и Красное моря, Персидский залив, Индийский океан, крайние моря Дальнего Востока и Индокитая. Он назвал земли, расположенные между “сердцевинной землей” и морским шоссе “большой концентрической буферной зоной,” которая включала Европу, Персию и Ближний Восток, юго-западную Азию, Китай, Индокитай и Восточную Сибирь 43, Спайкмен отметил особую стратегическую значимость района Ближний Восток – Персидский залив - юго-западная Азия, поскольку он включает “большие нефтедобывающие регионы евразийского континентального массива и сухопутных маршрутов к сердцевинной земле. ”44
Положение Соединенных Штатов в мире, объяснял Спайкмен, во время Второй Мировой войны было в значительной степени рискованным, потому что Германия и Япония угрожали нарушить баланс сил в Европе и Азии, от которого зависела наша безопасность. Если Германия и Япония победят в войне, Соединенные Штаты, предупреждал Спайкмен, “будут тогда окружены двумя гигантскими империями, управляющими огромными военными потенциалами… Баланс сил за океаном [был бы] разрушен, и относительный потенциал власти двух больших континентальных массивов тогда изменит географическое окружение Западного Полушария в политическое ущемление Старым Светом.”45
При таких обстоятельствах, объяснял Спайкмен, Соединенные Штаты не имеют возможности отступать за океан для обороны Западного полушария. Океаны, из-за современной технологии и передовых средств навигации и связи, являются “не барьерами, а шоссе.” “Равновесие сил в трансатлантических и пересекающих Тихий океан зонах,” отметил он далее, “является абсолютной предпосылкой для независимости Нового Света и сохранения силового положения Соединенных Штатов. Нет никакой безопасной оборонительной позиции на этой стороне океанов. Защита одного из полушарий - не защита вообще. ”46В заключении к “Стратегии Америки в Мировой Политике” Спайкмен напомнил его читателям, что “конец войны не есть конец борьбы за власть. ”47 Он предостерег государственных деятелей союзников против полной ликвидации потенциала власти Германии и Японии. Он пророчески предупредил, что “российское государство от Урала до Северного моря не может быть большим шагом вперед по сравнению с немецким государством от Северного моря до Урала.”48 Аналогично, поражение Японии не должно означать полного устранения ее военной силы и “сдачи Западного Tихого океана Китаю или России. ”49 Китай, предсказал он, однажды будет “континентальной силой огромных масштабов,” и ее размеры, географическое положение, природные и трудовые ресурсы вынудят Соединенные Штаты на союз с Японией для сохранения азиатского баланса сил. 50
“Новый” послевоенный международный порядок “не будет отличаться от старого,” написал Спайкмен. “[М]еждународное сообщество будет продолжать работать с теми же самыми основными структурами власти.” Послевоенный мир будет “миром политики власти, в котором интересы Соединенных Штатов продолжат требовать сохранения баланса в Европе и Азии. ”51
В 1942 г и 1943 г Германия и Япония начали терпеть неудачи в войне. Британские и американские силы победили немцев и итальянцев в Северной Африке, вторглись в Сицилию и Италию, переломили ход сражении в Атлантике и в июне 1944 г вторглись в крепость Гитлера в Европе. Тем временем, советская Армия пресекла усилия Германии взять Москву, Сталинград и Ленинград и медленно теснила немецкую армию на запад. На Дальнем Востоке и Tихом океане флот Адмирала Нимица и армия генерала Макартура медленно отодвигали назад островные и морские границы японской империи.
Профессор Спайкмен продолжал преподавать в Йельском университете после публикации Стратегии Америки в Мировой Политике, и, согласно Фредерику Данну, он запланировал написать еще одну книгу, “в которой он разовьет далее свои взгляды на предмет силы в международных отношениях и на место геополитического анализа в формировании политики безопасности. “52 Он писал и читал лекции, которые были записаны стенографически, и сделал карты для иллюстрации лекций. Спайкмен, однако, вскоре после этого заболел и умер в возрасте 49 лет 26 июня 1943 года. Йельский Институт Международных Исследований решил выполнить план Спайкмена, издав книгу, основанную на лекциях, картах, примечаниях и корреспонденции Спайкмена. Хелен Р. Николл, которая была научным сотрудником Спайкмена в течение двух лет, была поручена подготовка и редактирование текста. Результат, названный “География мира” и опубликованный в 1944 году, является классическим в области геополитического анализа.53
Как указывает ее название, “География мира” была главным образом сосредоточена на геополитической структуре мира периода после Второй мировой войны. Она была написана и опубликована в то время, когда геополитический анализ обращает на себя все большее внимание в Соединенных Штатах. В 1942 году Роберт Штраус-Хуп, Андреас Дорпален и Ганс Вейгерт пишут интересные работы по немецкой геополитике54; энтузиаст авиации Александр Де Северский пишет “Воздушная мощь - путь к победе”; 55 а Джордж Реннер создал Географию Человека в Воздушном Веке.56 В том же году был переиздан геополитический шедевр Хэлфорда Маккиндера 1919 года Демократические Идеалы и Действительность, а год спустя (по иронии судьбы в том же месяце, что умер Спайкмен), статья Маккиндера, “ Круглая Земля и обретение мира,” в которой он обновил свою известную “теорию сердцевинной земли,” появилась в Иностранных Делах 57 Также в 1943 году, издательство Принстонского университета опубликовало “Творцы Современной Стратегии,” книги, отредактированнойЭдвардом Мидом Эрлом, который рельефно проанализировал геополитические работы Мэхэна, Маккиндера, Де Северского, и немецких геополитиков.58 В 1944 г Вейгерт и Вильялмур Стефэнссон отредактировали симпозиум (сборник) по политической географии, названный Компас Мира. 59
Геополитический анализ снискал признание и интерес, потому что Вторая мировая война подтвердила важность многих из идей и понятий, выраженных Мэхэном, Маккиндером, Спайкменом и другими. Государственные деятели, стратеги, и обычные граждане, наблюдающие и переживающие Вторую мировую войну, видели, как великие державы соперничали за контроль в Евразии; читали о немецко-советской борьбе за контроль над “сердцевинной землей;” узнали ценность морской мощи и авиации; и стали знакомы с географией земного шара. Действительно, американцы стали очень хорошо знакомыми с такими на вид крошечными кусочками земли в бескрайнем Тихом океане, как Тарава и Иводзима; с малоизвестными водными объектами, такими как Залив Лейте и Коралловое море; местами в пустыне, такие как ущелье Кассерин и Эль Готтар; прибрежные области Анзио и Нормандия; бельгийские города, такие как Малмеди и Бастонь; и европейские леса, такие как Хортген и Арденны. География Мира, поэтому, была своевременна и актуальна, поскольку лидеры Америки стремились сквозь туман войны разглядеть послевоенный мировой порядок.
“Основой всемирного планирования мира,” согласно Спайкмену, “должна быть мировая география. ”60 Американцы, отметил он, в прошлом, к нашей опасности, игнорировали геополитические реалии. География Мира включала пятьдесят одну карту, чтобы помочь визуализировать положение Соединенных Штатов в мире. Глобальные расстояния и воздушные сообщения между государствами, например, были отражены в “полярно- центрированной азимутальной равноудаленной карте. ”61 Спайкмен указал, что государственные деятели склонны рассматривать мир, как если бы их страна была в центре мира. Он представил примеры карт, с центрами в Берлине, Токио, Лондоне, и Москве. Он отметил, что самые традиционные мировые карты помещают Европу в центр, так как “именно из Европы политическое доминирование распространялось по миру и это было условием баланса или дисбаланса сил в Европе, который в значительной степени еще определял силовое положение государств во всем мире. ”62
Наиболее характерной картой в целях понимания относительного властного положения Соединенных Штатов в мире является карта с центром в Западном Полушарии. Эта карта выявила самый существенный геополитический факт о Соединенных Штатах: “наш континент находится между европейскими и Азиатскими центрами власти Старого Света и отделен от них океанскими расстояниями. ”63 Одно важное следствие нашего географического местоположения, отметил Спайкмен, это то, что мы можем оказывать влияние в Европе и Азии, а державы Европы и Азии могут достичь наших берегов, только с помощью морских и воздушных сил. Другое следствие нашего географического местоположения - то, что мы потенциально геополитически окружены евразийским континентальным массивом. Именно поэтому мы должны были бороться с Германией и Японией во Второй мировой войне. Как объяснил Спайкмен,
Самым существенным фактом … в ситуации, с которой мы столкнулись, когда в начале 1942 г Германия и Япония достигли значительной части своих целей, было существование политического союза между ними. Мы тогда столкнулись с возможностью полного окружения, когда мы могли бы оказаться перед объединенной силой целого евразийского континентального массива. Сила центров власти Восточного Полушария тогда пересиливала. Для нас было бы невозможно сохранить нашу независимость и безопасность. 64
Именно поэтому, Спайкмен пишет, “наша постоянная забота в мирное время должна состоять в том, чтобы никакой нации или союзу наций не позволить стать доминирующей силой в любой из двух областей Старого Света, из которого можно было бы угрожать нашей безопасности. ”65Возможно, самой важной главой в Географии Мира был анализ и критический разбор Спайкменом геополитического мировоззрения Маккиндера. Спайкмен ставил в заслугу Маккиндеру то, что он первым подробно изучил “отношения между сухопутной и морской властью в действительно глобальном масштабе. ”66 Маккиндер, уже в 1904 г, идентифицировал северно-центральное ядро Евразии как “главную область” или “сердцевинную землю” и рассмотрел этот регион, как потенциальное место для мировой империи. Он назвал прибрежные районы в Европе, Азии и Ближнем Востоке, который ограничивал Сердцевинную Землю “внутренним или крайним полумесяцем.” Остающаяся сухопутная площадь земного шара была островами, такими как Великобритания, Япония, Австралия, Северная Америка и Южная Америка, и Маккиндер разместил их во “внешний полумесяц” его геополитической карты.
Спайкмен принял географическую концепцию “Сердцевинной земли” Маккиндера, но он считал, что Маккиндер переоценил потенциал власти региона. Ключевой областью мировой политики была не “Сердцевинная земля”, а скорее прибрежный район, граничащий с “Сердцевинной землей” который Маккиндер назвал “внутренний или крайний полумесяц,” и который Спайкмен, в Географии Мира, переименовал в “Римленд” (“Периферия”). Спайкмен описал Римленд следующим образом:
Римленд (периферия) евразийского континентального массива должна рассматриваться как промежуточная область, расположенная … между сердцевинной землей и крайними морями. Она служит обширной буферной зоной конфликта между морскими и сухопутными силами. Смотря в обоих направлениях, она должна функционировать “амфибийно” и защищать себя на земле и море. 67
Римленд включал страны Западной Европы, Ближнего Востока, юго-западной Азии, Китая и Дальнего Востока. Эти страны, в сочетании с прибрежными островами Великобритании и Японии, располагали большими, чем Сердцевинная земля промышленными и людскими ресурсами, и обладали сухопутной и морской властью. Спайкмен отметил, что три наиболее недавних претендента на мировую гегемонию (Франция Наполеона, Германия кайзера Вильгельма, и Нацистская Германия) все появились из Римленда. В каждом случае это была коалиция держав из Римленда, прибрежных островов, Сердцевинной земли и Северной Америки (в последних двух случаях), которая побеждала самую сильную власть Римленда.
Большой угрозой американской безопасности, предупреждает Спайкмен, “была возможность того, что области римленда евразийского континентального массива будут управляться единой властью.”68 Именно поэтому, писал Спайкмен, известное изречение Маккиндера о контроле Сердцевинной земли, приводящего к управлению миром, должен быть изменен на: “Кто управляет римлендом - правит Евразией; кто правит Евразией - управляет судьбами мира.”69
Спайкмен предсказал, что в послевоенном мире Китай превратится в доминирующую силу на Дальнем Востоке, в то время как советская Россия будет самой сильной сухопутной властью на континенте. Германия должна была быть уравновешена Францией и Восточной Европой (включая Россию), в то время как Соединенные Штаты и Великобритания должны сохранить свой морской и воздушный доступ к Евразии. Зоны сражений Второй мировой войны - области Римленда Европы, Ближнего Востока, и Дальнего Востока - продолжают быть областями самого большого стратегического значения в послевоенном мире. “Именно отношения мирного времени между факторами власти в этих регионах,” объяснял Спайкмен, “обеспечат или ухудшат безопасность мира вообще и Западного Полушария в частности.” Эти геополитические факторы означают, что Соединенные Штаты “обязаны защищать свою позицию, удостоверяясь, что никакой подавляющей власти не будет позволено сформироваться в этих областях. ”
Хотя Спайкмен часто характеризуется, до некоторой степени, как главный критик геополитических теорий Маккиндера, суть их взглядов на мироустройство, как отметил Колин Грей, показывает общую геополитическую перспективу для Соединенных Штатов.71, Хотя эти два теоретика отличались во взглядах на потенциалы власти определенных геополитических регионов на евразийском континентальном массиве, оба признали, что дисбаланс сил в Евразии угрожает безопасности Великобритании и Соединенных Штатов. У Маккиндера конечно не было бы никаких возражений по поводу заключения Спайкмена в Географии Мира о том, что “Соединенные Штаты должны признать еще раз и навсегда, что конфигурация власти в Европе и Азии представляет для них постоянный интерес как во время войны, так и во время мира.”72
Появление Советского Союза в качестве следующего претендента на мировую гегемонию, после Второй мировой войны показало, что структура послевоенного мира больше соответствовала теории “Сердцевинной земли” Маккиндера, чем теории “Римленда” (Периферии) Спайкмена. Однако центральные фронты холодной войны были регионами Римленда (Периферии) Западной Европы, Ближнего и Дальнего Востока. Действительно, чтобы успешно нанести поражение базирующейся на Сердцевинной земле власти советов, Соединенные Штаты возглавили и закрепили великую коалицию, которая включала главные державы Римленда (Периферии) и прибрежные островные державы Великобритании и Японии. Американская послевоенная политика, поэтому, извлекла выгоду из геополитического анализа как Маккиндера, так и Спайкмена.
Геополитический анализ Спайкмена применим к миру двадцать первого столетия, потому что он сосредоточился на постоянных и устойчивых особенностях международных отношений. Соединенные Штаты в настоящее время - доминирующая мировая держава, и сосредотачивает свои непосредственные усилия по обеспечению безопасности на нанесении поражения нетрадиционному вызову Исламских террористов и противостоянию усилиям стран-изгоев получить оружие массового поражения. Начиная с падения Советской империи в 1989-91 гг, не появился никакой равный конкурент, чтобы бросить вызов геополитическому первенству Америки. Все же, как и рекомендовал Спайкмен более шестьдесяти лет назад, Соединенные Штаты все еще активно участвуют в балансе власти в Европе, Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сохранение геополитического плюрализма Римленда Спайкмена по-прежнему является жизненно важным интересом Соединенных Штатов.Фрэнсис Семпа
Перевод: Пхакадзе Натия, кафедра социологи международных отношений МГУ.
Ссылки
1. Николас Дж. Спайкмен, Социальная теория Георга Зиммеля (Piscataway, NJ: Transaction Publishers, 2004). Впервые опубликовано в прессе Чикагского университета в 1925 году.
2. Вступительное слово Фредерика С. Данна к Географии Мира Николаса Дж. Спайкмена, "(New York: Harcourt, Brace и компания", 1944), с. IX.
3. Николас Дж. Спайкмен, "География и Внешняя Политика I ", American Political Science Review, Vol. XXXII, № 1 (февраль 1938), с. 29.
4. Там же., С. 29.
5. Там же., С. 32, 33.
6. Там же., С. 34, 36, 39.
7. Там же., С. 40.
8. Там же., С. 40.
9. Там же., С. 45.
10. Там же., С. 43.
11. Николас Дж. Спайкмен, "География и Внешняя Политика II," American Political Science Review, Vol. XXXII, № 2 (апрель 1938), с. 214.
12. Там же., С. 228.
13. Там же., С. 229.
14. Там же., С. 236.
15. Николас Дж. Спайкмен и Эбби А. Роллинз, "Географические Цели во Внешней Политике I,” American Political Science Review, Vol. XXXIII, № 3 (июнь 1939), с. 391.
16. Там же., С. 394.
17. Там же., С. 395.
18. Николас Дж. Спайкмен и Эбби А. Роллинз, "Географические Цели во Внешней Политике II," American Political Science Review, Vol. XXXIII, № 4 (август 1939), с. 602.
19. Там же., С. 611.
20. Николас Дж. Спайкмен, Стратегия Америки в Мировой Политике: Соединенные Штаты и баланс сил (New York: Harcourt, Brace и компания ", 1942).
21. Там же., С. 8.
22. Там же., С. 17.
23. Там же., С. 18.
24. Там же., С. 18.
25. Там же., С. 20.
26. Там же., С. 21.
27. Там же., С. 24.
28. Там же., С. 25.
29. Там же., С. 66.
30. Там же., С. 66.
31. Там же., С. 124.
32. Там же., С. 114.
33. Хайо Холборн, Политический крах Европы (New York: Alfred A. Knopf, 1966).
34. Спайкмен, Стратегия Америки в Мировой Политике, c. 126.
35. Там же., С. 121.
36. Там же., С. 128.источник - http://konservatizm.org/konservatizm/geopolitika/090410213813.xhtml
- Нет комментариев

katehon
Убить императора. Английский след
Фильм Алексея Денисова. В ночь на 12 марта 1801 года в Михайловском замке группой заговорщиков был убит русский император Павел I. С тех пор, уже более двух столетий, это загадочное и страшное преступление будоражит умы европейских и российских историков.
ЧИТАТЬ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ФИЛЬМА
Самый непредсказуемый и неоцененный потомством российский император Павел I царствовал с 7 ноября 1796 по 11 марта 1801 года. Он искренне полагал, что предыдущее правительство, поощряемое к мздоимству стилем управления его матери Екатерины II, довело страну до полного развала. Свой долг он видел в наведении немедленного порядка и потому предпринял решительные меры по борьбе с коррупцией, инфляцией, обнищанием народа, дворянским произволом в армии. Спустя несколько дней после вступления Павла на престол во дворце было сделано обширное окно, в которое всякий подданный, без различия чина и пола, имел право опустить свое прошение на имя императора. Ключ от ящика царь хранил у себя и каждое утро лично забирал и прочитывал все поступившие жалобы. Манифестом от 1797 года Павел I объявил, что отныне крестьяне должны работать на помещика не более 3 дней в неделю и что им предоставляется право подавать жалобы на своих хозяев в суд, в том числе и на имя самого государя. Офицерам-дворянам запрещено было использовать солдат для своих нужд, особенно для полевых работ в имении. Так же были сняты с казенного довольствия все дворянские дети, которые были записаны в гвардейские полки, но на самом деле никогда не служили. Этими действиями Павел настроил против себя всю правительственную элиту и значительную часть гвардейского генералитета. Однако катализатором заговора послужило резкое изменение после 1799 года внешней политики России. Разрыв отношений с Англией больно ударил по экономическим интересам части российской знати, получавшей значительные доходы от торговли лесом, зерном и льном через английских торговых посредников. В этой ситуации единственным спасением для Британии была скорейшая смена правления в России. Как писал один из современников, "катастрофа, закончившаяся смертью Павла, была делом рук Англии и английского золота". В качестве инструмента для свержения законного императора англичане искусно использовали внутреннюю оппозицию, которая только ждала удобного повода. Позже выяснится, что сестра непримиримых врагов Павла I, знаменитых братьев Зубовых, была любовницей английского посланника Витворта, который использовал ее для передачи важной информации и денег заговорщикам.Кто в действительности стоял за убийством Павла I? Кому это было выгодно, и как изменилась политика России после смерти императора? Почему Наполеон и Александр I ненавидели друг друга, и что писал Первый консул новому русскому монарху вскоре после убийства его отца ? Какие тайны до сих пор хранят французские и английские государственные архивы?
- Нет комментариев

katehon
Мир спасется через катакомбы
один из вариантов
Сергей Кургинян ставит диагноз современному обществу. Он сравнивает его с Римской империей периода упадка. Но в этой аналогии, достаточно известной, он видит и выход. Это катакомбы, в которых сохраняется культура и ценности. Небольшие группы людей, подобно первым христианам, могут сохранять себя и дать миру новые пути развития.
- Нет комментариев

katehon
Oпричнина – модернизация по-русски
Как во тереме живет православный Царь,
Православный Царь Иван Васильевич.
Он грозен, батюшка, и милостив,
Он за правду милует, за неправду вешает.
Народная песня
.
Глупцы только, которые не знают обстоятельств его времени, свойств его народа и великих его заслуг, называют его тираном.
Петр I
Виталий Аверьянов
 Краткая преамбула
Краткая преамбула17 февраля в Институте динамического консерватизма прошел круглый стол об актуальности опричнины. Он дал неожиданные результаты. Как минимум, настоящим событием в нашей социально-исторической мысли явилась работа А.И.Фурсова, получившаяся на основе сделанного им доклада. Несомненно, глубокими и нетривиальными были также выступления Максима Калашникова, Александра Елисеева, Егора Холмогорова и других участников. Началась заинтересованная полемика как противников, так и сторонников «новой опричнины».
Что касается статьи Фурсова, то в ней впервые столь отчетливо была показана исключительная сложность опричнины XVI века, нестандартность ее как политической инициативы, целенаправленно преображающей властные и социальные отношения. Кроме того, Фурсов убедительно показал положительную сторону внутренней связи опричнины и нео-опричнины в русской истории, а также диалектику трех полюсов русского государства: олигархии, опричнины и самодержавия, – диалектику, рисующую лицо России как своеобразное, ни на что не похожее. (Замечу в скобках, что опричнина выступает как своего рода «странный аналог» демократизации власти, русское прочтение демократического принципа, не фантазийного, не манипуляторского, как современная «демократия», а реального рабочего принципа – «к народности через чрезвычайку».)
источник - http://www.dynacon.ru/content/articles/384/
- Нет комментариев

katehon
"Великая война" - Фильм 3-й "Блокада Ленинграда" 2010
Великая Отечественная, геополитика
8 сентября немцы вышли к Ладожскому озеру, и Ленинград оказался оторванным от «большой земли». Над его жителями нависла угроза голодной смерти... Корабли Балтийского флота, зенитки, артиллерия и части Красной Армии защищали город и начавшую функционировать после лютых морозов «дорогу жизни». Многократные попытки советского командования прорвать кольцо окружения успеха не принесли. В городе умирали люди, но заводы работали. В феврале 1943 года Ставка приступила к реализации операция «Искра»...
- Нет комментариев

katehon
Что такое Россия?
Если честно вспомнить историю, то последние 300 лет, начиная с Петра I, наша элита пестовала идею "превратить Россию‑Евразию в уютную и «разумную» Швейцарию‑Европу.
В ответ, как бы в качестве метафизической насмешки над этой либеральной глупостью и пренебрежением традициями, у продвигавших эту идею деятелей не получалось ничего, кроме развала или, как минимум, ослабления страны и травли населения. Может хватит уже этого смертельного самоуничтожительного раболепия?
Может ли Россия существовать как социальное государство? Должна ли она следовать по европейскому пути развития? Есть ли некоторый особенный, русский социализм? Максим Шевченко сравнивает политические системы в разных странах и приходит к выводу, что следование европейскому пути принесло России слишком много крови, поэтому ей следует идти по собственному пути развития.
- 22 комментария

katehon
Воображариум Жильбера Дюрана
.
Учебный фильм о двух режимах и трех группах архетипов бессознательного, согласно топике Жильбера Дюрана. Производство Евразия ТВ, 2010
- 11 комментариев

katehon
Любить русские мозги
Повеселил)))
Словосочетание «утечка мозгов» было очень популярно лет десять тому назад. Но и до сих пор есть граждане России, которые хотели бы сменить гражданство, и невозможность этого доводит их до крайностей. Пример тому — самоубийство семьи россиян, которым отказали в шведском гражданстве. Александр Дугин комментирует этот шокирующий случай и говорит о том, что значит быть русским.
- Нет комментариев













